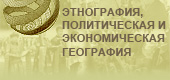
43. ИНДЕЕЦ ДЖОН
На озере Мармет, далеко-далеко на северо-западе, у самого горизонта, видно приближающееся каноэ. Мы смотрим в бинокль и с радостью узнаем знакомую фигуру:
- Джон! Индеец Джон!
- Заморозок потянул его к нам. Он так и обещал...
- Но он плывет один. Без Лизима?!
- Один.
Джон минует мыс, где наш полуостров каменными уступами отлого спускается к озеру, и вот мы уже сердечно приветствуем друг друга. Джон говорит, что все в порядке, а Лизим прибудет в лагерь завтра или послезавтра. Наши сообщения о лосях Джон принимает довольно равнодушно.
- Еще есть время, - говорит он.
Мы вскрываем банки с консервами, закусываем. Свежего мяса уже нет, есть только щуки. Во время еды Джон, который не так молчалив, как Лизим, пространно рассказывает, каким трудным было его плавание, - дул встречный ветер, спущены все псы Гайаваты. Я понятия не имею, что такое псы Гайаваты. но не хочу мешать еде. Лишь значительно позже, когда мы закуриваем, я спрашиваю о них Джона.
- Ага! - с шутливым злорадством улыбается индеец. - Вот, что тебя мучает!.. Да, псы Гайаваты.
- Это что же, чьи-то собаки или псы того Гайаваты, из легенды?
- Из легенды. Если дашь папиросу, то я тебе расскажу... - подтрунивает Джон.
Как известно, Гайавата был великим пророком индейцев, олицетворением всех достоинств и неутомимым воспитателем: от него все, что есть возвышенного и благородного в их характере. Он учил людей совершенству, боролся против братоубийственных войн и требовал, чтобы все любили друг друга, как братья. Гайавата - это не просто плод воображения; вероятно, такой индеец существовал, а позднейшие поколения окружили его имя мечтами и легендами.
Легенда гласит, что Гайавата, увидев первые паруса белых пришельцев, угадал суровую, но неизбежную судьбу краснокожих. Погруженный в печаль, он призвал своих псов, волков, лосей, бобров, птиц, с которыми жил, как с равными, и, сев с ними на большое каноэ, навсегда покинул людей. Гайавата укрылся в глубокой пещере и там, среди зверей, погрузился в долгий сон. Когда придет назначенное время, он вернется на землю и освободит порабощенных братьев.
Но раз в год, осенью, Гайавата просыпается ненадолго и облетает северные леса. Вместе с ним мчатся его звери: псы, превращающиеся в стонущие вихри, волки, перевоплощающиеся в грозовые облака, птицы, преображающиеся в шумящую листву. Когда волки воют в лесной глухомани, индейцы догадываются, что это волки - спутники Гайаваты.
После ежегодной безумной гонки Гайавата убеждается, что еще не наступило время освобождения; поэтому он возвращается со всей своей дружиной в пещеру на отдых, и после осенних бурь наступает белое безмолвие зимы.
- Теперь ты знаешь, - с улыбкой заканчивает Джон, - почему мне было трудно грести: псы Гайаваты неслись в воздухе...
- Это своеобразный вариант нашей легенды о спящих рыцарях в Татрах... - обращаюсь я к Станиславу.
Легенда о Гайавате не отрывает Джона от земных дел; он прислушивается к звукам, долетающим из леса. Ухо индейца улавливает там что-то. Закончив рассказ, он поворачивается к нам и спрашивает, хотим ли мы свежего мяса? Что за вопрос?
- Ну так Джон добудет его! - серьезным тоном заявляет индеец и, захватив привезенный с собой мелкокалиберный «Винчестер» Лизима, идет к лесу.
Я - следом за ним.
Сначала мы идем быстро, почти бегом. Пройдя метров двести, начинаем ступать осторожнее, а Джон зорко вглядывается в заросли. Здесь среди пихт растет много молодых буков и листвениц. Вдруг индеец останавливается и показывает на что-то впереди.
Там птицы. Целая стая fool hen - «глупых куриц», именуемых spruce partridge, то есть пихтовыми куропатками. Их семь или восемь. Некоторые что-то клюют в траве, другие сидят н-а кустах и нижних ветках деревьев.
- Сколько подстрелить? - спрашивает меня Джон, словно речь идет не об охоте, а о покупке какой-то вещи в магазине. - Пять хватит?
Мне кажется невероятным, чтобы из одной стаи можно было убить стольких сразу, но Джон объясняет мое молчание иначе.
- Пять это не очень много, - говорит он. - Не забывай, это скоро приедет Лизим...
С еще большей осторожностью мы приближаемся к стае. Вот уже до ближайших куропаток тридцать шагов.
Укрывшись за стволом пихты, Джон стреляет. Попадает прямо в голову. Куропатка падает на месте. Другие, не путаясь звука выстрела, ведут себя так, словно это их не касается.
Второй меткий выстрел сбивает с куста еще одну птицу; она с глухим стуком падает на землю. Сидящая рядом куропатка удивлена: она смотрит на упавшую соседку и, словно огорченная, кудахчет «гок, гок», что звучит, как «смотрите, смотрите!»
Два новых выстрела - один сразу же за другим, - и снова две куропатки. Четвертая, раненная в горло, еще трепещет на земле. Остальные наблюдают странное поведение товарок, выдавая свое изумление - «гок-гок-гок», - но улетать и не собираются.
Поразительное отсутствие осмотрительности, самого обычного житейского инстинкта! Трудно понять, как живут в лесах, где полно всяких хищников, такие беззаботные существа. А ведь в некоторых местах их великое множество.
После пятого выстрела мы выходим из-за пихты, чтобы подобрать добычу. Оживленная стрельба не взволновала уцелевших птиц, и, лишь заметив наше приближение, они обратились в бегство; отлетели на несколько десятков шагов.
Пять выстрелов - пять куропаток.
В прежние времена, когда в XVIII веке индейцы мужественно сражались против белых захватчиков и имели уже огнестрельное оружие, их повсюду считали негодными стрелками. Их неумение метко стрелять даже вошло в поговорку. Какое недоразумение! У индейцев всегда был меткий глаз, но зато очень мало пороха, отпускавшегося весьма скупо белыми. Они слабо заряжали ружья и, естественно, промахивались.
- Отлично! - хвалю я Джона и даю ему в награду целую пачку папирос.
Джон не только доволен, но еще как-то странно смеется, пряча папиросы; вспомнил что-то смешное.
Лишь часом позже, когда мы снова удобно рассаживаемся у костра, Джон объясняет мне причину своего смеха при вручении ему папирос:
- Грей Оул..., - говорит он, потирая нос, - Грей Оул рассказывал мне...
- Ты был лично знаком с Греем Оулом? - прерываю его.
- Лично, а как же! Мы часто вместе бывали проводниками у охотившихся здесь американцев... Разумеется, это было давно...
- И кем он был? Действительно метисом? Или происходил из индейцев?
На лице Джона появляется гримаса неуверенности, в глазах загораются насмешливые огоньки.
- А дьявол его знает! Я с его матерью не был знаком, в люльку к нему не заглядывал...
- Но все же он мальчиком жил среди индейцев?
- Жил, это правда. И так сильно полюбил нас, что стал потом большим индейцем, чем все мы, вместе взятые... Это ему очень нравилось - и американцам тоже!
Джон с сожалением показывает на свои старые брюки и потертую шерстяную куртку, которую носят все канадцы, живущие в лесах, и ворчит:
- Вот Грей Оул нигде не показался бы в такой одежде... Особенно при таком госте, как ты.
- А как бы он оделся?
- Как на обряд, по-индейски, как на праздник. Одежду он носил всегда из оленьей шкуры, а на ней много кожаной бахромы - на груди, на спине, на рукавах... Сплошная бахрома. Любил блеснуть! Зато американцы охотно фотографировались с ним.
- А что... он был пустой человек? Джон задумывается на минуту.
- Трудно сказать. Иногда бывал пустым, а иногда казался другим...
- Но леса-то хоть знал хорошо?
- Леса знал хорошо! - уверенно, со всей искренностью подтверждает Джон. - Знал, пожалуй, лучше многих индейцев... Ну, а теперь послушай, что Грей Оул рассказал мне однажды...
Прежде чем посвятить свою жизнь бобрам, Оул, как известно, был проводником охотников. Клиентуру имел преимущественно американскую и зарабатывал в день от шести до восьми долларов. Но часто ему перепадали дополнительные вознаграждения, так как, отлично зная канадские леса, Грей был следопытом и почти всегда наводил охотников на крупного зверя - лося или медведя.
Однажды Грей Оул сопровождал какого-то американца, лакомого до зверя, но горе-охотника. Янки был богат, одет с иголочки; он всегда носил с собой тяжелый золотой портсигар и обещал Серой Сове зглатые горы, если тот наведет его на настоящего зверя.
- Если я подстрелю что-нибудь стоящее, - уверял американец, то награжу тебя по-королевски!
В Штатах у него осталась невеста, которую он хотел поразить пышным охотничьим трофеем.
Серая Сова старался как мог, чтобы угодить американцу, но нетерпеливый растяпа то вспугивал лосей, то мазал. Он был слишком горяч. Наконец ему удалось убить отличного самца. Когда янки подбежал к своей добыче, то его охватила такая радость, что он производил впечатление человека, ошалевшего от счастья: швырял «Винчестер» на землю, дергал великолепные рога, хлопал Серую Сову по плечам и обнимал его, бормоча несвязные слова благодарности. Потом, как бы вспомнив свое обещание, начал нервно шарить по карманам.
- Ну, goddam you! («Goddam you!» (англ.) - «Проклятье!» ), где же этот чертов портсигар? - хрипел он, багровея. - Я твой должник, Грей Оул... О-о-о-о-о, тебе причитается... Ты заслужил...
В своей скромности Серая Сова хотел уже протестовать против такой щедрой награды, но разгоряченный охотник даже рта не дал ему раскрыть. Найдя наконец портсигар и отворив крышку, он резким движением поднес драгоценную вещь к самому носу проводника и закричал радостно и повелительно:
- Возьми! Возьми все!.. Возьми все папиросы, не стесняйся! Смелее, Грей Оул!..
А когда Серая Сова, оторопев, заколебался на мгновение, американец сам помог ему: порывисто вытащил из портсигара папиросы и засунул их Грею Оулу в карман, зардевшись от щедрой доброжелательности. Потом закрыл портсигар и спрятал его в карман...»
- Вот что я вспомнил, - заканчивает Джон, обращаясь ко мне, - когда ты наградил меня папиросами за куропаток!
* * *
Мы собираем топливо для вечернего костра, пересчитываем стаи летящих на юг гусей. Джон говорит, что только после прибытия Лизима начнется настоящая охота на лосей. Куропаток он запекает в горячей зголе прямо с перьями и очень доволен, что печеные птицы приходятся нам по вкусу. Потом угощает нас папиросами из подаренной ему пачки и заявляет, что метис Морепа, с которым он встретился еще раз, велел передать нам привет, а его, Джона, очень просил рассказать мне, пишущему книги, побольше интересных историй.
- Но что рассказать тебе? - задумывается индеец. Потом спрашивает нас:
- Верите ли вы, что душа странствует после смерти?
- Разумеется, верим! - поспешно отвечает Станислав.
- Я тоже верю, - говорит Джон.
Он берет череп убитой нами медведицы и, всыпав внутрь немного табаку, насаживает его на большую ветку соседней ели.
- Это старый обычай, - объясняет он, - чтобы извиниться и задобрить душу медведицы...
Станислав не скрывает своей досады: он предполагал, что Джон говорит о странствиях человеческой души.
Тем временем индеец садится на корточки рядом с нами. В уголках его глаз под маской серьезности поблескивают мерцающие искорки. Неужели это отблески скрытой насмешки? Джон чертовски наблюдателен и догадлив. Он понял, какое впечатление произвели его слова, и подметил разочарование Станислава. Теперь он обращается к трапперу, как бы объясняя его ошибку.
- Ты был прав, Стенли. Я имел в виду человеческую душу.
- И, наверное, хочешь рассказать что-нибудь интересное? - догадываюсь я.
- Хочу.
Сто лет тому назад один молодой индеец, который стал христианином, вскоре после крещения испустил дух. Весь лагерь охватила тревога: душа умершего, на манер душ осужденных на вечные муки, блуждала среди вигвамов, стонала, мучила людей, но чаще всего стучалась в вигвам его родителей. Им однажды удалось задержать эту душу и вызвать на разговор. И вот что рассказала душа сына:
«Как душа христианина, она полетела в рай, но страж, приглядевшись внимательнее, не впустил ее.
- Ты душа краснокожего! - заявил он. - Ступай прочь! Здесь рай только для белых!
Загубленная душа упала в глубокую пропасть, прямо к воротам ада, за которыми притаился дьявол.
- Это что еще за нахал! - заорал Вельзевул - Краснокожий? Скройся с глаз! Здесь место только грешникам белой расы!
Тогда душа молодого индейца вспомнила, что есть рай ее предков, и поспешила в счастливые луга Вечной Охоты. Но - о жестокая судьба! - знак креста выдал ее, и Великий Маниту прогнал несчастную.
- Вот почему, - сказгала душа сына родителям, - отвергнутая богом белых людей и богом красных людей, я блуждаю среди ваших вигвамов. И до тех пор я не обрету покоя, пока ваши молитвы и ваша верность старым обычаям не умолят Великого Маниту...»
Когда Джон заканчивает свой рассказ, никому из нас не хочется продолжать беседу. За внешней наивностью сказки мы чувствуем глубокую правду трагедии индейцев. Они как бы повисли в мертвой пустоте между старым миром, который у них отняли, и чуждым, почти недоступным для них миром белых людей.
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'