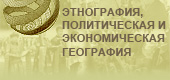
Ерга
Мысль об этой поездке пришла нам в голову в тот день, когда мой друг Сергей Есин закончил повесть и был совсем без сил.
- Вдвоем, больше никого,- обрадовался он моему предложению.
- Никого.
- Курить бросим.
- Бросим,- сказал я твердо.
Сережа даже не улыбнулся, а проговорил радостно и с каким-то удивлением:
- И писать, писать ничего не будем!
- Даже читать.
- А птицами своими, орнитологией ты не будешь заниматься?- спросил он подозрительно.
Я ехал изучать весенние перелеты птиц. Именно в этом состояла моя главная задача. Поэтому я ответил:
- Мои заботы тебе мешать не будут, Сережа.
Куда мы едем, мы знали твердо,- на Север. Только вот где мы сойдем с поезда и по какой реке поплывем, это было еще не совсем ясно. Билеты мы взяли до Котласа, но, может быть, выгрузимся раньше и двинем по реке Верхняя Ерга или Нижняя Ерга, а может быть, поедем дальше Котласа, чтобы попасть в верховья реки Шомоксы или Лименды. Это совсем неважно. Ведь мы почти ничего не знали об этих местах, разве что там водятся глухари. У нас с собой разборная байдарка «Салют», палатка, спальные мешки, ружье, топор, кастрюли и еще много нужных вещей, скрупулезно занесенных в список и тщательно упакованных в непромокаемые мешочки. И еще у нас был путеводитель величиной с почтовую открытку - книжечка в коленкоровом переплете. На красной ее обложке написано золотом: «Путеводитель по Съверу Россiи». Он немного устарел (издан путеводитель в 1898 году, а первоисточники, на которые в нем ссылаются, и того старше - 1845, 1813 и даже 1802 годы), но зато в нем есть двенадцать подробных карт. Мы ведь собираемся двигаться по воде, а реки, наверное, остались те же, что и были сто лет назад. Что касается остального - деревень, городов, дорог,- это мы увидим. По какой-то из этих рек мы надеялись выплыть в Сухону и попасть в Великий Устюг. А оттуда в Котлас и в Сольвычегодск.
Погрузив лодку и огромные рюкзаки на третью полку, мы улеглись спать, решив, что утро вечера мудренее. Так давно мы мечтали об этом моменте: лечь и сутки проспать. Спать столько, сколько захочется, пока сами не проснемся.
На следующий день в семь часов утра Сергей свесился с верхней полки и посмотрел на меня.
- Не спишь?
- Куда там...
- Ну, ничего, привычка для того и привычка, чтоб от нее отвыкать. Пройдет еще пара дней, и ты увидишь...- обнадежил он.
Мы стали смотреть в окно, и то, что там увидели, не вселяло в нас особых надежд. До Вологды снега не было, а от Вожеги все вдруг стало белым-бело. В Коноше, откуда железная дорога поворачивала на восток, стояла настоящая зима. «Ничего,- говорили мы друг другу, - ничего...» А сами думали про себя: «Ох и хватим мы лиха!» Вспоминались советы и предостережения друзей. Все они твердили в один голос, что конец апреля слишком раннее время для Севера, что нельзя ехать в места, о которых ничего не знаешь, что прилета птиц я не увижу.
Мой большой друг орнитолог Рюрик Бёме, глянув на карту, сказал: «Это все сплавные реки. Вашу байдарку раздавит бревнами, плотами, как яичную скорлупу. Поедем лучше со мной, пока не поздно, в Астраханский заповедник. Вот где ты увидишь птиц!» Но мы уже решили с Сережей, отступать было некуда. К тому же я никогда не наблюдал птиц в этих краях и знал их хуже, чем, скажем, птиц гор. За много лет работы зоогеографом довелось побывать во многих местах. Большая часть жизни прошла в горах. Горы хороши, хотя и там теперь, особенно на Кавказе, стало угнетать обилие туристов и людей, знающих лучше тебя, как следует жить. А Север оставался для меня пока землей неизвестной и манящей.
Названия-то какие! Ижма, Пеза, Мезень, Ерга, Выго, Пинега, Кулой, Вымь, Уна, Тойма, Уса, Порья, Поной, Солца... От одних только этих слов делается радостно на душе. Европейский Север усеян такими названиями, связанными с древнейшим, дославянским населением. Многие из этих названий упоминаются уже в уставе новгородского князя Святослава (1173 г.), в частности Тойма, Пинеза (Пинега), Усть-Емца, Вель и др. Заселение края славянами началось с VIII века, а до этого здесь жили, занимались охотой и рыбной ловлей различные племена: емь, чудь, весь и др. Судя по археологическим находкам на Сухоне, это были переселенцы с Урала. Племена эти не истреблялись славянами, они сливались с ними и другими многочисленными пришельцами, оставляя свои названия и усваивая славянскую культуру. Такие названия, как Череповесь, Луковесь, Весьегорск, связаны, очевидно, с племенами весь. Прямые потомки веси-вепсы сохранились и до нашего времени, они живут сейчас к югу от Онежского озера.
Неуловимый аромат слова «ерга», за которым стояли в нашем воображении и дремучие леса, и лоси с медведями, и болота с клюквой, и токующие глухари, и затерявшиеся в лесах деревеньки, заставил нас сойти с поезда, не доезжая Котласа. Ближе всего от верховьев Ерги была станция Сенгос. На ней мы и сошли.
Но тут оказалось, что байдарку, ружья и наши гигантские рюкзаки с привязанными к ним палаткой и спальными мешками мы можем пронести на себе метров сто, не более. А до реки нам надо было идти пять километров. До ближайшей деревни на реке - Абрамовский Починок - невозможно было добраться ни на телеге, ни на санях, ни на автомашине. Трактора на станции не оказалось. Да и на тракторе вряд ли кто-нибудь отважился бы пускаться в путь по такому бездорожью. Ночью пришел местный поезд, мы проехали на нем эти пять километров и выбросили наши рюкзаки с лодкой около моста, прыгнув вслед за ними.
Мы стояли на высокой насыпи возле железнодорожного моста. Под ним вся в желтых хлопьях пены стремительно неслась небольшая речушка. Хрустели и звенели дыроватые льдины, сталкиваясь, налезая друг на друга и стараясь поскорее уйти вперед. Наиболее удачливым удавалось выйти на стремнину, и тогда они быстро исчезали за поворотом. На горизонте светлеющее небо соприкасалось с лесом. Лес был всюду, в нем терялась река, он подпирал с двух сторон железнодорожное полотно, уходил вдаль, становясь зеленым, голубым и черным морем. Сосна, ель, пихта. А над лесом в холодной дымке зарождающегося ясного дня плыло бормотание тетеревов. Это и была река Верхняя Ерга.

Для передвижения по таким речушкам ничего лучше надувной байдарки 'Саламандра' не придумаешь
Подобрав разбросанные под насыпью вещи, мы спустились к воде. Собрать байдарку - дело недолгое. Сложнее разместить в ней весь наш многочисленный скарб. К тому же вещи надо пристроить таким образом, чтобы ничто не потонуло и не уплыло, если байдарка перевернется или проколется. Все привязывалось, пристегивалось, надувалось. Еще и еще раз мы неторопливо вынимали вещи из лодки и укладывали их заново. Наконец на берегу ничего не осталось. Тогда мы попробовали сесть сами. Это оказалось непросто - неуклюжие от теплой одежды, в высоких, почти до пояса, сапогах, мы с трудом втиснулись в нашу хрупкую лодочку и уже не могли пошевелиться. Ноги мои были обложены сверху и с боков котелками, чайником, кастрюлей и спальным мешком. О том, чтобы при крайней необходимости быстро выскочить из лодки, не могло быть и речи. Оставалось плыть вперед и поглядывать в оба.
Первые часы нашего путешествия состояли целиком из острых ощущений. Это напоминало слалом, когда летишь с горы и преодолеваешь поворотами хитроумно расставленные препятствия. Но там ты знаком с трассой, прошел ее снизу вверх, а здесь фигурами слалома служили неизвестно как расположенные льдины, торчащие из воды коряги, бревна, сучья. Разница заключалась еще и в том, что на склоне всегда можно сбросить скорость, даже остановиться, а здесь этого делать уже нельзя - сейчас же развернет, прижмет, перевернет. На перекатах надо было, наоборот, грести изо всех сил.
Падение реки здесь крутое: на карте возле этого места самая высокая отметка - 239 метров над уровнем моря. Свой путь мы начали с водораздела между системами рек Вага и Сухона. Когда-то, в XI веке, новгородцы, начав пробираться на восток, устраивали тут свои «волоки». Поднявшись по притокам Ваги, они перетаскивали лодки в верховья рек, текущих на юг, и попадали в Сухону. Поэтому вся восточная часть нынешней Вологодской области и юг Архангельской назывались в древности Заволочьем, а дославянское население этого края именовалось «чудью заволочьской». Главные-то пути проходили западнее, через Белое озеро, и оттуда вниз по Шексне и Славянке. Здесь устраивался волок в реку Прозовицу, которая вела в Кубенское озеро и в Сухону.
По пути новгородские люди строили свои опорные пункты - погосты. «Погост» - слово древнее. В старину, в период заселения Севера славянами, слово «погост» обозначало места остановки и жительства представителей князя, владевшего краем. Тут же обосновывались и торговцы - «гости». Погостом называлось место торговых сделок, превратившееся в административный центр. На погостах строились церкви и возникали кладбища. От этого произошло современное значение слова «погост». В погостах отдыхали, собирали добытое, а иной раз и оборонялись от местных жителей. Так в XII веке возник город Вельск (Вель) и упомянутая уже в летописях 1138 года Тотьма. Скоро Заволочье стало столь обширным, что охватило не только территорию от реки Онеги до Северной Двины, но и включало в себя земли до реки Мезени, потом до реки Печоры. Заволочье стало для Великого Новгорода, стремящегося к освоению Севера, своеобразным тылом. Продвигаясь на восток, новгородцы обложили данью местное население и за Печорой, в Югре.
В последующие столетия история Заволочья была насыщена военными и политическими событиями. Описание сохранили нам летописи. Так, известно, что уже в 1169 году заволочане проявили самостоятельность и отказались платить дань Новгороду. В этой борьбе их поддержал суздальский князь Андрей, прислав в помощь свой полк. Однако господин Великий Новгород разгромил войско Заволочья вместе с полком князя Андрея.
Два столетия, с XIV по XVI век, Заволочье представляет собой арену ожесточенной и кровопролитной борьбы между великими князьями и Новгородом. «...Лука Варфоломеев, не послушав Новгорода и митрополита благословления и владычия,- гласит летопись 1342 года,- скопив с собой холопов и приде на Волок на Двину и постави городок Орлец, и скопив емчан, и взя землю заволотскую по Двине, все погосты на щит». В 1397 году московский великий князь посылает в Заволочье бояр, которым без боя удается привести земли во владение Москвы: «...вси двиняне за великий князь задалеся, а ко князю великому целоваша крест». Новгородцы, конечно, не могли с этим смириться: «...не можем ...сего терпеть от великого князя Василия Дмитриевича: отнял... у Великого Новгорода пригороды, волости, наши вотчины, хотим поискать своих вотчин».
Выступив в поход, новгородцы разорили многие погосты и городки Заволочья, взяли и сожгли Устюг, захватили Орлец на Двине. Борьба была долгой и беспощадной. В 1401 году полки великого князя во главе с Анфалом и Герасимом Расстригой вновь завоевали Заволочье, но опять были разбиты Великим Новгородом. Походы следовали один за другим. Заволочье в течение двухсот лет переходило от Новгорода к Москве и обратно. Только в 1471 году все земли Заволочья стали владением московских князей...
Как и тогда в весеннее бездорожье в среднее течение Ерги можно добраться только водой. У новгородцев лодки были покрепче нашей двухместной байдарки - пучка алюминиевых трубок, обтянутого резиной в полтора миллиметра толщиной. Но нас это не печалило. Нелегко заставить себя прыгнуть на лыжах с трамплина или с десятиметровой вышки в воду. Но как только это получится, сразу же захочется повторить, прыгнуть еще и еще раз. Мы почувствовали уверенность и стали получать удовольствие от каждого рискованного маневра.
Река стала шире, течение замедлилось, бурунов уже не было, зато появились ледовые заторы. На разливах река то и дело перегораживалась льдинами, не оставляя прохода. Вода уходила под лед, а нам надо было вылезать из лодки и перетаскивать ее через льдины. Погода вдруг резко изменилась, повалил мокрый снег. Одежда быстро намокла, в лодке появилась вода. Вскоре заторы пошли один за другим, и мы уже не втискивались в лодку, а вели ее по открытой воде «в поводу», двигаясь вдоль берега. И когда, наконец, показалась впереди свободная ото льда речная гладь и мы радостно принялись перетаскивать лодку по льду последнего затора, Серега ухнул в воду. Он прыгнул на край льдины, а она поднялась дыбом и чуть было не прихлопнула его по голове. Веселая была бы история, если бы он попал под лед и не достал дна... В нашей почти зимней одежде далеко не уплывешь.
После купания мы налегли на весла: скоро должна показаться деревня, давно уже слышался шум трактора. Стояла она на высоком берегу и носила длинное романтическое название - Большой Верхне-Ерогинский Починок.
Перевернув на берегу байдарку, мы направились к ближайшей избе. Обледенелая одежда Сергея и моя заиндевевшая борода производили, очевидно, не лучшее впечатление: молодая хозяйка в ужасе отступила и дала понять, что в соседней избе нам будет гораздо лучше. И действительно, в рядом стоящем доме, возле которого тарахтел трактор, нас приняли радушно. Сергей выжал и развесил у горячей печки мокрую одежду, переоделся в сухое, которое мы хранили в полиэтиленовых мешках, я перетащил из лодки вещи, сложил их кучей в углу почти до самого потолка. Покончив с этим, я вместе с хозяевами, трактористом и его приятелем, принялся «лечить» моего друга. А после большой миски похлебки и трех стаканов чаю Сергей спросил:
- Ты умеешь сворачивать козьи ножки?
Я умел сворачивать козьи ножки. Меня научила этому еще моя бабушка, Ольга Николаевна Кузнецова, народоволка. Бабушка всегда жила одна в квартире и курила только махорку. Она сделалась вся черная от курева. Мы так и звали ее - «черная бабушка» в отличие от белой бабушки, матери моей матери. От черной бабушки и достался мне «Путеводитель по Съверу Россiи»; она отбывала ссылку в Сольвычегодске, где и вышла замуж за дедушку, тоже народовольца.
Я свернул Сереже козью ножку, и он с удовольствием затянулся. С тех пор на меня легла обязанность сворачивать ему цигарки. Сергей так и не смог научиться этому искусству, газету рвал не поперек текста, а вдоль, слюнявил ее так, что она разваливалась у него в руках, а махорка просыпалась.
...На следующий день мы уехали из Починка. К вечеру Ерга разливалась и течение становилось быстрее, а утром лужи хрустели под ногами. На прибрежных кустах оставались пластиночки льда. За ночь вода падала на метр и на полтора. Повисшие у воды тонкие льдинки рассыпались под солнечными лучами с хрустальным звоном, нарушая тишину леса. Она только подчеркивалась кряканьем уток, верещанием дроздов и курлыканьем журавлей.
Паводок прорвал ледовые заторы, по которым мы пробирались накануне, и теперь мимо нашей палатки величественно проплывали последние льдины.
Выставленные с вечера в заводях резиновые чучела оказывались к утру на берегу или висели, скрепленные коркой льда, пока она не оседала с уханием и перезвонами колокольчиков.
Массового перелета не было. Утки тянули только по зорям, а держались парами и небольшими стайками. Птицы ждали потепления, чтобы двигаться дальше на север. То и дело перед лодкой взлетали тяжелые кряквы и шлепали по воде своими короткими крыльями. Петляли зигзагами чирки-свистунки. Это было время, когда зимние птицы, такие, как пуночки, рюмы и чечетки, подались уже на север, а прилет с юга гнездящихся здесь птиц только-только начинался. Выпавший снег задержал его. До нашего приезда прилетели лишь грачи, скворцы, зяблики, юрки и передовые стайки жаворонков. Они присоединились к зимовавшим здесь дятлам, синицам, клестам, но весны еще не сделали. Настоящая весна начиналась, разворачивалась и набирала силу на наших глазах. Во всех краях прилет связан с ледоходом: прошел лед - появились птицы. Заверещали вдруг дрозды - однообразные свисты у белобровиков, громкие рулады у певчих, по вечерам стали слышны минорные флейты черных дроздов и трещание деряб. У воды, на бревнах, на корягах, заплясали трясогузки, полились-зазвенели песенки зарянок, «забухал» где-то в чаще леса осторожный лесной голубь вяхирь. А пеночек, мухоловок, славок еще нет: появятся много позже. Не слышно было и кукушки, рано пока.
Те птицы, что живут у воды, собрались на Ерге, как только прошли последние льдины. За утками прибыли кулики, их много, несколько десятков видов. Самые заметные - чибисы. Кружат они над сырыми лугами и заунывно кричат: «чьи-вы, чьи-вы...» А то начинают гоняться друг за другом в своих брачных играх. Взмывают вверх, падают чуть не до самой земли, кувыркаются в воздухе и все никак не могут узнать своих, все вопрошают: «чьи-вы, чьи-вы?»
Вот заблеял барашком первый бекас. Самый первый. Поднимаю голову и вижу, как он пикирует на залитое водой болотце. Не могу равнодушно слушать я эти звуки. Есть у меня дома пластинки с записью голосов птиц, да и сам я записывал на магнитофон птичьи голоса. Так зимой, когда дома никого нет, возьму и заведу какую-нибудь из них. А сам на диван лягу и глаза прикрою. Лежу и слушаю чибисов, бекасов, дроздов, и нет зимы, нет пыхтящих под окном МАЗов, воздух становится чистым, легким, и возникают запахи. Пахнет весной: то весенним болотом, то прошлогодним сеном, то хвоей. Запахи совершенно отчетливые, конкретные, связанные с воспоминаниями об определенных местах.
Останавливались мы рано. Приглянулось местечко, сейчас же пристаем к берегу, обходим его, выбираем самый красивый уголок и ставим палатку.
Как-то после обеда Сергей с удовольствием растянулся на своем надувном матрасе и сказал:
- Ты знаешь, я бы сейчас почитал Пруста. Сколько раз брался в Москве и не мог, нельзя читать подобные вещи в суете.
Я покопался в своем рюкзаке и вынул том Достоевского.
- Саня! - закричал Серега - «Бесы»! Здорово! Я не читал.
- Знаю,- сказал я.
- Откуда?
- Был у нас разговор...
- Правильно. Ну, спасибо тебе, век не забуду.- Сергей раскрыл книгу.
- Одним «спасибо» не отделаешься. - Он вскинул голову.
- Чего тебе?
- Мне надо добыть для музея несколько птиц. Например, белокрылого клеста, он водится только на Севере. Штучек десять, лучше двадцать.
- Зачем так много?
- Серия. Один экземпляр ничего не значит для науки. Белокрылого клеста в Зоологическом музее МГУ, в его научных коллекциях не так уж и много.
- Давай, - рассмеялся Сергей, - считай, мы квиты. Для того чтобы привезти в музей несколько птиц, пришлось оформлять специальное «разрешение на добычу диких животных в научных целях». Теперь с этим делом строго. «Закон об охране и использовании животного мира» 1980 года в статье № 27 «Зоологические коллекции» запрещает коллекционирование всех без исключения животных. Скажем, раньше чуть ли не в каждой школе собирали Коллекции бабочек. Препарировали и хранили их неумело, большая часть собранного пропадала, погибала. Энтомологов-любителей становилось все больше, а бабочек все меньше.
Теперь ловить бабочек запрещено. Собирать же коллекции животных можно только по специальному разрешению Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Советах Министров союзных республик. Частным лицам такие разрешения не выдаются, а заинтересованные учреждения и организации вроде Зоологического музея МГУ, где я работаю, такие разрешения могут получить.
Может быть, это непростительно для человека, пишущего полевые определители птиц, но мне пришлось еще стрелять несколько раз для того, чтобы распознать виды встречающихся улитов. Они здорово похожи друг на друга, эти кулики, не сразу разберешься, что к чему. Кулики - трудный отряд в этом отношении, а я, работая больше в горах, не так уж часто с ними встречался. Восемьдесят шесть видов куликов живет у нас - попробуй определи их, если не будешь стрелять и держать птиц в руках. А в роде улитов есть совсем схожие виды: черныш, например, и фифи. В определительных таблицах о фифи сказано так: «...отличается от черныша тем, что стержень 1-го махового пера...» Стержень 1-го махового! Можно, конечно, отличить фифи по голосу, по его громкому и мелодичному «фи-фи-фи-фи-фи», но не всегда он так кричит, иной раз прямо-таки как черныш: «тю-ли-тюли-тюлилили...» Черныш от фифи отличается более контрастной черно-белой окраской, но это заметно на взлете, а не на сидящей птице. Если наблюдать птиц на одном месте, то разобраться можно, а когда все время двигаешься, занят не только наблюдениями, но и веслом, это сложнее.
Короче говоря, по вечерам у костра мне приходилось делать то, что делают все орнитологи в экспедициях: снимать шкурки с добытых птиц и делать из них «тушки», т. е. чучела, лежащие с вытянутыми лапками на спинке. Не пропадало и мясо, мы жарили из куличков и других добытых птиц шашлыки. Этому меня научил орнитолог и писатель Евгений Павлович Спангенберг. Он говорил, что, если уж птица добыта для коллекции музея, она не должна пропасть.
Нет ничего лучше кружки горячего чая у костра. Особенно после трудного дня, когда намаешься на весле и все болит с непривычки. Кофе мы не пили. Оказалось, что у костра он не идет. Мы не могли пить кофе даже по утрам. В больших эмалированных кружках, с запахом дыма кофе теряет вкус и всю свою прелесть. Не уживается он и с махоркой. Чай только вкуснее от махорки, а кофе от нее сразу же утрачивает свой вкус. При этом многое зависит от дозировки, которую в полевых условиях, заскорузлыми руками и в непривычной большой посуде правильно не составишь. В общем, это напиток комфорта.
Мы пили чай. Природа настраивала на философский лад. В городской суете, в спешке мы говорим афоризмами, острим и рассказываем анекдоты. Здесь они звучат оскорбительно. Любой поверхностный разговор тянет вглубь. Наверное, потому, что здесь все имеет свою глубину: за стволами ржавеющих к вершинам сосен стоит бескрайний лес; над головой - бездонный колодец неба, который не замечаешь в городе; в текущей мимо воде - вечность. И мы узнали друг о друге столько, сколько никогда бы не узнали, если бы проработали вместе десять лет.
Долго на Ерге не встречалось никакого жилья, а потом мы проплыли поселок Пихтово и деревню Илатовское. Между этими двумя селениями нет ничего общего, как будто стоят они не в пяти километрах друг от друга, а совсем в разных краях. Стандартные одноэтажные дома в Пихтове еще не потемнели, на бревенчатых стенах выступают капли смолы. Даже деревянные мостики, идущие вдоль улиц, еще совсем светлые. Земля успела покрыться толстым слоем опилок. Воздух пропитан запахом смолы. Сразу в нескольких местах гудят тракторы, слышно ворчанье автомашин, изредка раздается одинокий гудок маленького паровозика - кукушки.
Поселок Пихтово похож на другие леспромхозовские поселки, расположенные вдоль железной дороги, идущей на Котлас. Их тут много - Кулой, Кокшеньга, Шангалы, Уфтюга, Сулонга, Кизема, Лейга и т. д. Каждая станция железной дороги - это поселок лесозаготовителей, выросший тут в конце сороковых - начале пятидесятых годов. Один чуть побольше, скажем Кулой, другой, вроде Уфтюги, поменьше. Жители маленьких поселков заготавливают и отправляют лес в центры, в поселках побольше есть лесопильные заводы, где распиливаются бревна на доски.
В послевоенные годы леса требовалось много, вот и рубили его на каждой станции только что проложенной по тайге железной дороги. Но столь энергичные лесозаготовки, к сожалению, приводят к тому, что новый лес не успевает вырастать. В государственном масштабе он восстанавливается, а в районе каждого из этих поселков - нет. Ведь общий цикл возрождения леса длится около ста лет. Сейчас леспромхозы наряду с разработкой леса занимаются его посевами и посадкой. Лет через пятнадцать-двадцать уже растет на этом месте лес общим массивом, то есть довольно ровно по высоте и слишком часто. В борьбе за свет и место под солнцем лес сам себя разреживает, часть деревьев погибает, а оставшиеся идут в рост.
Лесозаготовщики не могут ждать сто лет, пока вырастет и созреет для рубки новый лес, им приходится забираться в глубь лесных массивов. Так возникают поселки вроде Пихтова. С остальным миром они соединены только узкоколейной железной дорогой, других дорог тут не бывает, лишь только вырубки и просеки, по которым трелевочные тракторы доставляют так называемые хлысты (стволы деревьев) для обработки.
В поселках живет народ приезжий. Зарабатывают тут неплохо. Люди приезжают отовсюду: с Украины, из Ростовской области, с Северного Кавказа. В Пихтове около пятисот человек, есть клуб, столовая, детский сад и ясли, большой магазин, почта. Десятки тысяч кубометров леса идут ежегодно отсюда по рельсам на лесопильные заводы Котласа.
Илатовское - деревня старинная. Во всем своем облике она сохранила черты прекрасного русского зодчества. Избы здесь высокие, двухэтажные, в четыре - шесть и более окон. Особую красоту этим домам придают широкие, крутые и высокие крыльца с точеными столбиками и перильцами, крытые резанными в чешую крышами. По подзорам, конькам и наличникам кое-где сохранилась еще яркая раскраска. Передние окна дома, так называемые «красные», отделаны высоким фризом с желобчатыми украшениями и легким карнизиком, тоже резанным. Под крышами у иных домов красуются раскрашенные балкончики. Берег реки со стороны деревни укреплен высокой бревенчатой стеной, а улицы выложены дощатыми мостками.
Мы зашли в дом выпить молока. У окна, сидя на лавке, чинил сети с пенопластовыми поплавками пожилой человек. Был он седой, с бритым лицом, в гимнастерке без ремня и в резиновых сапогах. Он спокойно поздоровался с нами и, не проявляя никакого любопытства, продолжал работу. Хозяйка спустилась в подполье за молоком, а мы огляделись. Первой бросилась в глаза расписная печь. Красной, синей и желтой краской на ней был выведен незамысловатый орнамент, нарисованы птицы и львы, похожие больше на пещерных медведей. У притолоки - жар-птица с человечьей головой. В старинном резном буфете за стеклом виднелась пластмассовая посуда. Скрытые окладами иконы глядели черными ликами. На окне радиоприемник, на табуретке у стены - швейная машинка. Изба чистая, прибранная.
Холодное молоко хозяйка принесла в глиняных горшочках. Отрезала от буханки по куску хлеба, села рядом на скамейку, сложив руки на коленях. Попивая густое молоко, объясняли, кто мы. Сказали, что хотелось бы попасть на глухариные тока. Хозяин, Платон Евгеньевич, оказался охотником и собирался завтра в охотничью избушку Костенково, что ниже по реке на пятнадцать километров. Обещал показать глухариные тока.
- Тока те далеко, идти надо лесом, по снегу, - говорил Платой Евгеньевич. - Можно и не найти, потому как панореи заросли совсем.
Панореей здесь называют просеки. Мы ответили, что все равно тока будем искать, и решили доплыть до избушки Костенково сегодня же.
Когда немного освоились, Сережа попросил разрешения посмотреть одну вещицу. Он направился к полке, висевшей возле печки, и снял с нее плетенную из бересты посудину. Это был размером с кулак сосуд в форме уточки. Закрывался он сверху деревянной пробкой.
- Это что, Платон Евгеньевич? - спросил Сережа.
- Солоница.
- Понял? - засветился весь Сергей, повернувшись в мою сторону.- Солоница! - и дал мне ее подержать, но тут же отобрал и снова стал ее рассматривать.- Соль в ней держат?
- Соль. На покосы берут иль на работы какие,- отозвался хозяин.
- А есть у вас еще такие?
- Больше нет, одна осталась.
- Ты знаешь, Серега, - сказал я,- об этом есть что-то в нашей книжечке. - Я полистал путеводитель и нашел: «Лес не только влияет на склад воззрений и понятий населения, но всецело и буквально входит в его обиход; в былое время недостаток муки восполнялся корой; обувь, солонки, фляги, рожки и свистульки, пестерьки, короба, туеса делаются из бересты».
- Платон Евгеньевич, а есть у вас еще какие-нибудь изделия из бересты? Лапти, короба, рожки?
- Да нет, - улыбнулся хозяин, - теперь ведь не делают, в магазине есть всякая посуда. Разве что пестерь... Хорошо с ним по ягоды ходить или по грибы: легко и не мнется.
- Покажите, пожалуйста!
Хозяин вышел в сени и вернулся с пестерем - большим рюкзаком прямоугольной формы, сплетенным из бересты. У него широкие лямки из сыромятины, а верхний край плотно закрывался и закреплялся тонкими ремешками вокруг двух деревянных пуговиц в форме лодочек. Это была очень красивая вещь и мастерски сделанная.
Побывав еще в нескольких домах, мы собрали неплохую коллекцию берестяных изделий - солонины различной формы и величины, четырехгранные бутыли, фляги, короба, ножны для точильного бруса. Не могли мы найти только лаптей. Здесь давно уже в них не ходили, так же как не пекли хлеба из сосновой коры. Бересту нам отдавали без всякого сожаления, эти вещицы валялись на чердаках и в подпольях, ими уже не пользовались. Но лапти мы все же нашли - спустя неделю, в деревне Тишино. Только не лапти, а ступни, лапти плетут из липового лыка, а ступни здесь делали из бересты. Мы проплыли по Ерге в общей сложности километров полтораста, и по всей реке нашелся только один старик, который плел еще из бересты ступни. Плел он их для развлечения, ибо спросу на них не было.
Что касается местной национальной одежды, то на Ерге не сохранилось почти никаких ее следов. А ведь сто лет назад у северян были замечательные национальные костюмы, особенно у женщин. Женский наряд этих мест тщательно скрывал формы тела в складках толстых, парчовых материй. Красоту, хотя и бесформенную, но пышущую здоровьем, свежестью, красоту белого лица, алых щек, черных бровей и белоснежных зубов подчеркивали яркие цвета тканей, серьги с подвесками, густые нити жемчуга. Красота рук скрывалась длинными рукавами, на руках иногда носили браслеты и запястья. Головной убор северянок - золотая кика, украшенная жемчугом, с ниспадающими с нее жемчужными нитями, окаймлявшими лицо. Такая кика стоила очень дорого и передавалась из поколения в поколение. Жемчуг был свой, северный, он добывался из жемчужных раковин в реках и озерах Архангельской области. Этот жемчуг редко был крупный и чистой воды. Обычно попадались жемчужины мелкие, синеватого цвета.
Жемчужные раковины северяне искали с плота при помощи сделанной из бересты смотровой трубы. Когда находили россыпи раковин, то доставали их на плот расщепленным шестом. Но далеко не в каждой из них обнаруживали старатели жемчужину, найти ее было редкой удачей, одна большая жемчужина могла прокормить семью в течение года. Изредка попадались жемчужины красного цвета, они особенно ценились. Прозрачные стоили еще дороже. Различался северный жемчуг и по форме: круглый, его еще называли «скатна» - на тарелке не стоит, катится; плашка- плоской формы жемчужина; бочонок, яйцо.
Хорошо было бы пожить в Илатовском недельку, но мы должны были добраться до охотничьей избушки. Уложили наши драгоценности и поплыли. По берегам появилось больше смешанного леса, пошли березняки и осинники. На низком заболоченном берегу встречались колки из «мендовой сосны» - рыхлой, с беловатой древесиной. На высоком берегу, на супесях, стояла крепкая, смолистая, с красной древесиной «кондовая» сосна. Но больше было леса елового, сорного и частого. Такие леса завалены валежником, ветви соседних елок перекрещиваются, продираться по ним трудно. С елью роднится пихта, а с сосной обычно рядом лиственница, одно из самых долговечных и прочных деревьев. Но лиственница попадалась редко. Не знаю отчего.
Река несла нас все дальше в тишину. До самого устья Ерги деревень больше нет, только охотничьи избушки - Костенково, Еловцы, Переволока. Современная карта оказалась не вернее старой, деревень Чистая и Прилуки уже не существовало. Начались глухие места. Здесь мы и надеялись найти глухариные тока.

Нет дома без деревянных кружев
...Я потянул на себя дверь охотничьей избушки, и она отворилась. Внутри было темно. Сергей принял охапку сена, которым было заткнуто маленькое оконце, и мы увидели черные, обугленные стены, такой же потолок, нары, лавку, под потолком - шесты для просушки одежды. Сложенная из кирпича печь не имела трубы, избушка топилась по-черному. Небольшое отверстие в потолке, куда уходил дым, задвигалось дощечкой. Под нарами мы нашли запас сухих дров, топор. В печи стоял закопченный чайник, в подвешенном лукошке хранилась крупная черная соль. Нары завалены прошлогодним сеном.
Перетащив из лодки вещи, начали растапливать печь. Приготовленное добрым человеком смолье дружно взялось, затрещали дрова, и избушка наполнилась едким дымом. Он все ниже и ниже пригибал нас к полу, пока мы не выскочили из низкой двери, плача от дыма, отплевываясь и ругаясь. Ни открытая дверь, ни выставленное окно, ни отодвинутая в потолке дощечка не помогали, дым выедал глаза, драл наждаком бронхи, и больше одной минуты выдержать это было невозможно.
- Что-то не так... Мы что-то не так делаем, Саня,- не сдавался Сергей.- Ведь останавливаются же люди здесь, топят как-то и дышат чем-то.
- Ну, давай подумаем,- ответил я, и мы принялись изучать конструкцию курной избы.
Но как мы ни ломали головы над техникой топки по-черному, дым выжил нас. Вынеся на лопасти железного весла жар из печки, устроили на воле костер и на нем приготовили ужин. Золу в печи залили, и через час в избушке уже можно было ночевать.
Наутро в низких долбленых лодках с шестами в руках прибыли два Платона: наш знакомый Платон Евгеньевич и другой Платон Алексеевич. Оба в стеганках, низко перепоясанных солдатскими ремнями, в резиновых сапогах и в шапках-ушанках без тесемок, отчего поднятые уши их шапок болтались и подпрыгивали на ходу. За плечами - пестери, за поясом - топоры.
- Что это вы на дворе-то? Почему в избе не топите? - удивился Евгеньевич, когда мы пожали их шершавые руки и познакомились с Алексеевичем. Мужики были мокрые, обледенелые.
- Что-то испортилось, дымит очень,- сказал Сергей.
Платоны заулыбались:
- Чему ж тут портиться? Надо пожарче топить.
Они скинули пестери, Евгеньевич принялся растапливать, а Алексеевич заткнул на спине топор за пояс и направился к двери.
- Подождите, подождите, - засуетились мы, - сперва поешьте, обед как раз готов! А то такой дым будет, что придется на дворе есть.
- Сперва отдохнуть, - сказал Евгеньевич, - обсушиться, потом есть. А дым, он сейчас пройдет, его не будет.
Алексеевич вышел и вскоре принес на себе еловое бревно. В несколько минут оно превратилось в кучу нарубленных дров. Мы жгли на костре сучья да ветки, за толстое дерево с нашим «шведским» топориком нечего было и браться. Платон же разделался с бревном, словно с карандашом. Для начала он сделал вдоль него глубокие надрубы - удар вертикально, удар наискось, удар вертикально, удар наискось. А потом он перевернул ель и двумя ударами топора стал отделять кругляши. Получились они острыми с одного конца и тупыми с другого. Платон раскалывал их, не ставя на попа, а на земле, ударяя ближе к острому концу. Взмах - пополам, еще удар - две четвертушки. Поленья выходили ровными и одинаковыми, как спички.
Огонь в печи сразу дал жар, и дым ушел под потолок. Стало тепло и как-то по-особому уютно. Даже при раскрытой двери от развешенной на шестах одежды повалил пар. Побелели камни внутри печи.
Старый быт на Севере сохранялся долго. В курных избах кое-где жили до самого XX века. Но в Илатовском большие и опрятные дома стояли уже не менее сотни лет, а то и более. Почему же охотничья избушка построена все же по-черному? Тот же лес, тот же кирпич для печи, только труба не выведена. Вчера мы с Сергеем долго рассуждали по этому поводу.
Платоны на это смотрели просто. На мой вопрос о том, почему охотничьи избушки стоят по-старинному, по-черному, Евгеньевич ответил:
- По черному-то лучше-тепло не уходит в трубу. И сохнет хорошо, а дым, он не мешает.
Платоны работали в леспромхозе, обоим под шестьдесят. Евгеньевич вышел на пенсию в прошлом году, а Алексеевич дорабатывал последний год. Оба прошли войну: один в саперах, другой в пехоте. Зимой промышляли охотой: брали лицензии на лося, стреляли зайцев, рябчиков, ловили выдр. В основном охотились за куницей.
Но Евгеньевичу во всем была удача, а Алексеевичу не везло. Родилось у него девять дочерей. Семью надо было кормить и одевать. И дали ему прозвище Платон Несчастный. Евгеньевич был грамотным, читал газеты, ездил к сыновьям в Москву, в Ленинград и даже в Самарканд, а дочери Алексеевича все жили в Платовском и окрестностях. Читал он с трудом, после войны никуда не выезжал, так и проживал в лесу. Дом Евгеньевича мы видели, жил он хорошо - чисто и с достатком. Вряд ли у Платона Несчастного был такой дом. Евгеньевич никогда не сидел без дела, он все время что-то строгал, плел, мастерил, а Алексеевич только курил и улыбался. Он был добрее своего замкнутого товарища, веселее, непосредственнее. Не было в нем хитрости.
- Лосиха-то ушла,- рассказывает Платон Несчастный, - а он остался на острове, испугался плыть. Маленький совсем, одни ноги, как на ходулях. Тогда я разделся, поплыл к нему. А он не бежит, глупый еще. Взял я его за шею и утянул в воду, со мной он поплыл. Так до берега и добрались.
Евгеньевич подумал и сказал:
- Не найдете вы тока. Очень тяжело. Я и не пошел бы ни за что, хоть стреляй. Идти километров двенадцать, дороги нет, панореи заросли, гарей много, все помешалось. Опять же снег по пояс и вода под ним... Не найдете, боюсь, зря промучаетесь, да еще и заблудитесь.
- Мы за этим и приехали. Чтоб помучиться. А заблудиться не заблудимся. Саня всю жизнь по лесам да горам шастает,- кивнул в мою сторону Сергей.
- Да и топора у вас нет, без топора не обойтись. С топором я везде пройду, а с вашим-то...
- Топор мой могут взять, а я себе этот направлю,- Алексеевич ткнул ногой топор, хранящийся в избушке.
С топором мы дали маху. Хороший гуцульский топор, привезенный из Карпат, остался в Москве, не могли найти для него топорища. Вот и пришлось взять «шведский» - маленький, целиком металлический, с обтянутой резиной ручкой.
- Груза у вас много. Чего вы только таскаете в своих мешках? - продолжал Евгеньевич.
- Как что?! Палатка, спальные мешки, матрасы надувные, еда, посуда, патроны, коллекции... Ведь все надо.
- Палатка зачем? - спросил Платон Несчастный.- Там избушка есть.
Сергей не соглашался:
- А не дойдем до избушки, как ночевать?
- Как мы ночуем, - улыбнулся Несчастный. - Зимой ночуем при любом морозе без палатки и без матрасов. Когда топор есть, ничего не надо.
Евгеньевич начал подробно объяснять нам, как они ночуют в лесу:
- Берешь два бревна, обтешешь с одного боку и положишь обтесанным кряж на кряж. С одной и с другой стороны подле себя. В середине лапнику побольше постелешь. Щепки, смолье прислонишь к кряжу, зажгешь. Внутри разгорится так, что всю ночь жар будет, хоть раздевайся на морозе.
- Нодья это называется,- сказал Сергей.
- Правильно, нодья. Так и спим в чем есть. Не холодно, без всяких мешков и этих ваших надувалок. Мыслимо разве таскать на себе такое?
Мы не согласились. Для нас привычнее рюкзак, для них - нодья.
- А котелки, а чайники? В чем варить? - пошел Сергей дальше.
- Подумай вот, как сварить рыбу без котелка, - хитро прищурился Алексеевич. - Можно, однако, и без котелка.
Мы оба знали, как это можно сделать. Но вида не подали, переглянулись только.
- Как же без котелка? - не очень естественно удивился я.
Платон взял в руки берестяное лукошко с солью.
- Вот и котелок!
- Его же на огонь не поставишь, да и вода вытечет, - продолжал игру Сергей.
- Не успеет. А на огонь его и ставить не надо. Раскали камни и бросай туда. Два камня в таком лукошке рыбу сварят.
Ободренный нашим радостным удивлением, Алексеевич продолжал:
- Если топор есть, ничего не надо. И по лесу можно ходить и через реку. Мы на одном бревне переплываем, а вам два надо. Схвати их только топором, чтоб не вертелись, и плыви.
Топор, наверное, самое древнее изобретение человека, а обойтись без него нельзя и сейчас. Любопытно, пила на Севере появилась впервые только в XVIII веке. До этого она здесь была неизвестна. Все делалось только топором. Избы были рублеными. Да что избы! Деревянные церкви сказочной красоты, которыми мы не перестаем восхищаться, создавались при помощи одного только топора.
Даже такая работа, как постройка кораблей, выполнялась топором. И это были надежные корабли, недаром земляки Платонов - жители Устюга Великого - решались пускаться на них в путь по неизведанным морям за тысячи километров. Да по каким еще морям - по Ледовитому океану! Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов - это ведь все устюжане. Дежнев в 1648 году проплыл вдоль всего северо-восточного берега Азии и открыл пролив, отделяющий Азию от Америки. Ерофей Хабаров годом позже собрал отряд смельчаков и из Якутска дошел до Амура, по которому проплыл до моря. А Владимир Атласов в 1697-1699 годах добрался на этих кораблях до Камчатки, открыл и обследовал ее. Кстати, лодочки, на которых приплыли Платоны, сделали они сами из толстого ствола осины тоже одним топором. Они так и называются - стружки, стружок.
В каждом крае топоры свои, особые. В горах, например, они с длинным топорищем. Оно дает большой рычаг. А сам топор тоже длинный, постепенно расширяющийся от обуха к лезвию. Это топоры горцев, живущих лесом. Я видел их в самых разных местах-в Татрах, в Альпах, на Кавказе, на Тянь-Шане... Приблизительно также выглядит знаменитый канадский лесорубный топор. Форма его подсказана необходимостью, жизнью. Таким топором удобно валить лес. Продолговатый топор с длинным топорищем стал символом, эмблемой карпатских горцев - гуцулов и польских горцев - гуралов. Они комбинируют его с ледорубом, делая на конце древка острый штычок, на который опираются при ходьбе по обледенелым склонам. Таким топориком и ступеньки во льду вырубить сподручно. Одновременно он служил в прошлом времени боевым оружием.
Но длинная рукоятка и большой рычаг - это еще не все; не они придают наибольшую эффективность топору как орудию производства. Коэффициент полезного действия всякого топора становится выше, когда центр тяжести лежит ближе к направлению удара. Существует специальная, довольно сложная формула для вычисления этого коэффициента. Прямая рукоять оказывается не самой удобной. При ней центр удара находится вне топорища, и работающий испытывает отдачу. При изогнутой рукоятке отдачи не бывает.
Платоны на сплаве пользовались плотницкими топорами - небольшими, короткими, с топорищем длиной от локтя до конца пальцев. Ими удобно и бревно обтесать, и плот построить, и лучину настругать, и дров нарубить. И носить за поясом легко. Валить лес такими топорами плохо.
Глядя на то, как Платоны с вечера любовно натачивали топоры, я понял своего друга Вадима Гиппенрейтера - спортсмена, замечательного фотографа и охотника. Вадим месяцев по десять жил в лесу. Часто один. Он и на медведя ходил в одиночку. Как-то мы прожили с ним неделю на Иртыше, и каждый вечер Вадим протирал свой топор масляной тряпкой и надевал на него кожаный чехол. Топорище у его топора было сделано из гикоря - прочного и эластичного дерева, покупаемого нами для изготовления горных лыж в Америке. Вадим не давал мне пользоваться своим топором. И правильно делал, хотя я тогда и не понимал этого. А теперь знаю, что такое хороший топор.
Когда мы поутру впряглись в свои рюкзаки, Платоны только покачали головами. Они повели нас на панорею.
Прошли километра два, а они никак не могли отыскать нужную просеку. Наконец, Алексеевич сказал:
- Вот она, - и показал рукой на запад.
- Так все и пойдете, - объяснил Евгеньевич. - Три ручья будет, а в конце озеро. Вешенское называется. На том озере избушка. Сойдете с панореи - проскочить можете озеро. От него возьмете километра два на юг. Чищь будет, болото сухое. На нем они и токуют. Штук по сорок бывало.
Старик осмотрел нас с ног до головы и добавил:
- Не дойти вам со своими мешками. Заплутаете. - Закурили на прощание, а Алексеевич и говорит мне:
- Только ты это... маленьких птичек не бей. За что их?
- Ты видишь какую-нибудь просеку? - спросил Сергей, когда мы остались одни.
- Просеки не вижу, - ответил я, - но если смотреть вдаль по верхушкам деревьев, то намечается какое-то просветление. Она идет прямо на запад, компас у нас есть. Найдем.
Лес шел мелкий, березняк да осинник, изредка попадались одинокие ели. Видно, когда-то, очень давно, была здесь сплошная вырубка, а теперь затянуло мелколесьем. В лесу лежал глубокий снег. Наст держал плохо, лучше бы он совсем не держал: сделаешь два шага, а на третьем проваливаешься вдруг выше колена. От неожиданности теряешь равновесие, рюкзак заваливает, садишься, чтоб не вывихнуть ногу. Вытащить ее и забросить вперед стоит больших усилий. Но еще труднее, когда ставишь ее в снег и пытаешься вытащить другую ногу: не удалось этого сделать, так и остался стоять с широко расставленными ногами. Снег набивался в ботфорты наших высоких сапог, и ничего с этим нельзя было поделать. Ноги сразу же стали мокрыми. Ветки и тонкие стволы березок били по лицу и хватали за ноги, пружинили, отбрасывали назад. Помогали нам держаться панореи лоси, следы их все время шли по просеке: видно, пробираться рядом намного хуже.
- Пишут еще книжки всякие про ужасы джунглей, - ворчал Сергей, - подумаешь, джунгли. Попробовали бы здесь пробраться!
- Да уж, - поддакивал я. - Ты не знаешь, зачем мы тащим два ружья, если у тебя нет очков?
- Не знаю, не знаю, так же как не знаю, на кой черт нам эти проклятые матрасы, сделанные из свинца.
Несколько раз мы сбивались с просеки и возвращались обратно. Вокруг было много следов разного зверья - зайцев, куниц, лис, рысей, но у нас не хватало сил сделать шаг в сторону и рассмотреть следы, все внимание было сосредоточено только на том, чтобы не сбиться с направления и выдержать этот путь. Остановились у следов только один раз, когда они были прямо у нас под ногами. По ним легко можно было прочесть охоту рыси на зайца. Рысь караулила его, сидя на березе. Следы зайца оборвались вместе с его жизнью. Огромная рыжая кошка с коротким хвостом и кисточками на прижатых ушах прыгнула на зайца сверху, и все было кончено в секунду. На снегу не видно даже следов борьбы, лишь кровь и несколько клочьев шерсти. Рысь унесла добычу, возвращаясь по своим следам.
Ручьи, о которых говорили Платоны, так разлились по лесу, что превратились в болота. Вода в них стояла выше наших сапог, и мы тратили много времени, чтобы их пройти,- искали брод, стоя по колено в воде и все больше и больше теряя надежду добраться в этот день до Вешенского озера и избушки.
Потом начались миражи. Каждое очередное болото мы принимали издали за желанное озеро. Сергей с трудом уже ворочал языком, вот-вот свалится. Пропади оно пропадом, это озеро, эти глухари, этот лес! Я тоже едва держался на ногах, меня качало из стороны в сторону, но не мог же я показать этого Сергею-новичку в экспедиционных делах. Он держался молодцом, не уступая мне. Двенадцать километров мы прошли за двенадцать часов. И чуть было не заночевали в десяти минутах ходьбы от избушки.
Утром избушка покорила нас. Стояла она у самого берега невскрывшегося еще озера, тихого, окруженного молчаливым хвойным лесом. Была она раньше курной избой, топилась по-черному, но какой-то хороший человек вывел в крышу трубу, обтесал изнутри стены и дверь, прорубил второе окошко. Стала она чистой и светлой. Здесь мы нашли сухие дрова, чайник, соль, сахар, хлеб. Внутри устройство избушки любовно и талантливо продумано, будто занимался этим незаурядный архитектор, специалист по интерьеру: нары широкие, ногами к печке и упором для ног; за печкой шесты для сушки одежды; у покрытого куском пластика стола- раскладывающиеся лавки; на свободной стене устроены откидные полати. Мало людей в ней - просторно и уютно, много - сейчас же откидываются полати, расширяются лавки, и на всю ночь удобно размещаются шесть человек. На полу при нужде могут еще лечь трое-четверо. А помещение-то все чуть больше железнодорожного купе. Ладная избушка.
Такое умное устройство ее не случайность. Оно создано многовековым опытом жителей русского Севера. Дело в том, что и нары, и шесты, и лавки, и полати избы рубились одновременно со стенами и кровлей. И каждая вещь в такой избе имела свое традиционное, закрепленное за ней раз и навсегда место. Было свое определенное место и у стола. Он ставился торцом к окну фасадной стороны. Перед печью стоял у стены другой стол, хозяйственный, а над ним находился открытый «посудник» - полка с деревянной посудой и кухонной утварью. Рядом с печью устраивали рундук-подпольницу, вход в подполье, над которым нависал прилавок - место для отдыха. Тут же находилось место для рукомойника.
Нет ничего лишнего, но есть все необходимое. Радостно становилось оттого, что никто не расписал избушку своими фамилиями, не поломал ничего, берегли. Одна лишь надпись снаружи на оконном наличнике: «Товарищи охотники, относитесь квсему похозяйски што положено безвас попользуй и потом наместо когда уходите неоставляйте жару в печке».
В первый день мы отдохнули и осмотрелись, нашли место тока, чтобы прийти туда на следующую ночь. Лес вокруг озера - сказочный, страшный. Лес ведьм, леших и болотных кикимор. Он совсем не похож на горный лес, на сосновые парки кавказских ущелий Баксана или Цея, на алтайскую тайгу с кедром и лиственницей, на тянь-шаньские леса с их, пирамидальными елями Шренка и даже на запущенный, девственный лес Домбая. Главная особенность горного леса- камни. Я совсем недавно был в Домбае, недели три до того, и хорошо еще помнил, как выглядит лес на Западном Кавказе. Камни большие и маленькие, цвета серого, коричневого и сиреневого покрывают почти всю землю. Ближе к воде они обкатанные, величиной с кулак или голову, а подальше, на склонах,-угловатые, большие, порой величиной с дом. Почвы почти не видно. Вся поверхность земли состоит из камней, прошлогодней хвои и мха. На камнях кроме мха растут заячья травка, земляника, папоротники и даже небольшие деревья. Лес тут состоит из ели, пихты, бука, рябины, березок. Упавшие деревья лежат по склонам вверх комлями. Заблудиться в этом лесу невозможно: иди вниз по склону и выйдешь к реке. Всегда виден противоположный склон, каким бы большим и густым лес ни был.
А здесь лес тянется на сотни километров, можно бродить в нем неделю, месяц и вообще не выбраться. Лес давит и пугает не только своей бескрайностью, он страшен и сам по себе - черными руками вывороченных на каждом шагу корней, прогнившими стволами, торчащими из .болота рогами-сучьями. Ступишь на такой ствол, и нога уходит в него чуть не по колено. Птиц почти не слышно. Лишь изредка прокричит синица или зяблик да донесется резкий крик черного дятла. Но лес живет, он полон звуков. Общим фоном этой зловещей симфонии служит налетающий порывами ветер. Он шумит в верхушках сосен ровно, спокойно. Шум этот то стихает, то нарастает вновь. Вот легкое дребезжание, как будто кто-то проводит пальцами по большому гребню. Ни за что не догадаешься, что бы это могло быть. Подходишь и видишь: ничего таинственного, это трепещет и бьется о ствол чешуйка красной сосновой коры.
Вдруг раздается скрип дверных петель. Дверь болтается от ветра и скрипит, надрывая душу. Чудится, что где-то здесь, совсем рядом стоит избушка бабы-яги, которая улетела на своем помеле, забыв прикрыть за собой дверь. Вот она и ходит взад-вперед на ржавых петлях. А оказывается, на сук высокой и стройной сосны упала другая - небольшая и высохшая. Заклинилась она между стволом и суком и скрипит. Ветер качает сосну, трется об нее мертвое дерево и скрипит, скрипит не переставая. Звук высокий, резкий, режущий. Бывает другой раз скрип и глухим, низким, как стон вечно мучающегося лесного духа. А вдруг услышишь совершенно ясно, как потрескивают дрова в жаркой печи или крутится деревянное колесо прялки. Далеко, на весь лес разносятся такие звуки.
На сухих верховых болотах, что Платоны называют чищь, сосны стоят редкие и корявые. Посреди одной чищи заметили мы старую сосну. Когда-то ее сломило молнией, а может быть, уцелела она от пожара одна-едииственная. Только все вокруг молодняк, старуха одна стоит. Собственно, ее и нет, всего метра на два поднимается ее могучий ствол. Сверху он расщеплен и мертв. Коры с одной стороны у него нет. Тугие, мучительно скрученные витки древесины насмерть переплелись тут с корнями. А выше ствол закручен в полтора витка. Нелегкая, видно, была жизнь у дерева. И вот с той стороны, где жива еще кора, выходит из старой сосны сук. Большой, целое дерево. Это сын старухи. Зеленый, свежий, он тянется ввысь, радуясь жизни, дарованной ему матерью.
Долго и почтительно стояли мы перед этой сосной, каждый думая о своем и о тех ассоциациях, что рождаются в душе при виде такого.
Как описать глухариный ток? Есть на свете вещи, которые чувствуешь очень остро. Такие впечатления оседают в тебе раз и навсегда. Но попробуй об этом рассказать...
Что такое глухариный ток? Прежде всего, различные неудобства - ты не выспался, устал, страдаешь от холода. Тебя одолевают сомнения: будет ли ток, удастся ли выстрелить, услышишь, увидишь ли то, ради чего страдаешь?
В таком приблизительно настроении я шагал с Сергеем в полной темноте вдоль просеки. Временами лед на лужах не выдерживал, и нога с шумом уходила в воду. От этого я вздрагивал и злился: глухари слетаются на место тока с вечера, и спугнуть их ничего не стоит. Тогда все напрасно, одно разочарование.
Лес начал светлеть, из еловой чащи мы вышли на границу леса с верховым болотом. Сели на рюкзаки, прислонившись к стволу сосны. Потянулось тягостное, мучительное ожидание. Ни закурить, ни пошевелиться. Тишина. Начало светать, стали видны редкие корявые сосны на болоте; под ногами можно было уже рассмотреть мох, то молодой зеленый, то старый ржаво-рыжий; светло-серые, почти белые пятна лишайников; прошлогодние ягоды клюквы на кочках. Сочная зелень овальных с ложбинкой по середине листьев брусники, стебельки черники с нарождавшимися светло-зелеными отростками. Болото все в инее, местами виднелись пятна снега, и во впадинах чернели замерзшие лужи.
Серега совсем посинел и казался ужасно злым. Я боялся, что он сейчас встанет и скажет:
- Катись ты с этой дурацкой затеей! Хочешь, чтобы я подох от холода на этом проклятом болоте?!
Но тут над нашими головами с шумом пролетела глухарка. Мы переглянулись, холода как не бывало. Подождали еще. И вот издали, чуть слышно: «Каду!» Потом. «Каду! Каду!» И опять тихо.
Теперь не спешить, не торопиться. Это тетеревиное бормотание разносится на сотни метров, токующего глухаря слышишь в лесу, наверное, только метров с шестидесяти, семидесяти.
Громкий, как взрыв, шум крыльев раздался совсем рядом. Птица села на соседнюю сосну. Я замер, не поднимая головы, слушал. Не шевелился и Сергей. Но было тихо. Прошло несколько томительных минут, и вдруг с соседней сосны на весь лес:
- Чу-у-фыш-ш!
Тетерев! Тетерев токует на дереве! Может быть, глухари теперь на земле начнут токовать?! Вообще-то это бывает. Вадим Гиппенрейтер, замаскировавшись, сделал однажды свои знаменитые снимки токующих глухарей именно на земле. У него по этому поводу есть даже своя теория, он считает, что раньше глухари токовали только на земле, а потом увеличившаяся опасность загнала их на деревья. Шальной тетерев, «чуфыркнув» еще несколько раз, улетел. И тогда стало слышно глухарей. Прислушавшись, я насчитал их уже семь.
Семь глухарей - неплохой ток. Пора начинать. Тот, что ближе всего от нас, еще не разошелся, берет осторожно, прислушивается. А чуть правее - уже вошел в раж, «точит» на весь лес. Помоложе, наверное, поглупее, поазартнее.
Токующий глухарь издает два вида звуков: щелкает и «пилит», или, еще говорят, «точит». Когда щелкает, он прислушивается. Не дай бог в это время двинуться или хрустнуть веткой, сразу снимется и был таков. Но вслед за его «каду-каду» идет «пиление». Я бы передал этот звук так: «Джик-жик-джик-жик!» Звук этот напоминает точение ножа о камень. И вот когда он «точит», можно успеть сделать по направлению к нему несколько шагов. Он ничего не услышит. Но как только глухарь кончит «точить», тут стой и не шевелись.
Медленно, шаг за шагом подбирался я к лихому петуху, стараясь между его «точениями» стоять на двух ногах, а не на одной, чтобы не потерять равновесие и не свалиться. Одновременно надо было следить за поведением - другого, осторожного глухаря, которого я обошел стороной: взлетит еще и этого испугает. И точно, он взлетел, но мой «точил» в это время и ничего не заметил. Вот он стал мне уже виден - ходит по суку, хвост распустил, шею вытянул.
Стрелять или подойти еще? С такого расстояния не пробьешь, пожалуй, да и облететь может дробь. Делаю под одно «пиление» два прыжка, под второе четыре шага. Успокаиваю дрожь в руках, поднимаю ружье...
Глухарь тяжело ударился о землю, перевернулся через голову, дернул лапой и затих.
- Серега! Иди сюда! - крикнул я и услышал, как кощунственно звучит голос человека на глухарином току. Лес замер, потом в отдалении послышался шум крыльев.
- Ты что орешь?! - набросился на меня Сергей.
- Вот он, - я поднял за ноги тяжелую птицу.
- И это все? - спросил меня совершенно зеленый Серега.
- А тебе что, мало?
- Так полно же было! Зачем ты закричал? - с досадой проговорил он.- У нас на двух лицензия.
- Нам больше не надо. Главное, ты посмотрел, услышал. Ты все видел?
- Да. Я видел, как он падал.- Сережа рассматривал птицу, не дотрагиваясь до нее. Смотрел на глухаря с болью и удивлением.
- Вот и все,- сказал он.
- Да. Вот и все.
В избушке, пока я возился с печкой, он гладил глухаря по коричневым перьям спины, поднимал бородатую, с красными бровями голову, любовался сине-зеленым переливом на груди птицы.
- Сколько ему лет, Саня?
- Почем я знаю? Вообще-то глухарь как вид очень древняя птица, я думаю, что он мог жить когда-то вместе с гигантским оленем, мамонтом и волосатым носорогом.
- Да, это стоит, Саня...
- Что?
- Этот переход, Ерга, да и вообще вся весна. Ты знаешь, я пришел к одному важному для себя решению. Я потом тебе скажу, в Москве.
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'