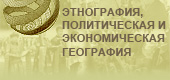
Кокшеньга
Тихо плывут мимо нас берега, колышутся в красноватой воде отражения молчаливых елей. Спокойно, незаметно Печеньга слилась с Илезой, и образовалась Кокшеньга.
Медленно двигаясь по течению, не гребя и не шумя, удобно наблюдать за птицами. Я определял сроки прилета, состав, вел учет численности. В этот раз пролет был дружным. Летели кряква, шилохвость, свиязь, широконоски, гоголь, чернети, чирки-свистунки и чирки-трескунки. Во время остановок мы ходили в лес и наблюдали за происходящими изменениями в фауне лесных птиц. Не было еще ласточек, стрижей, мухоловок, славок, но зяблики, юрки, несколько видов овсянок, щеглы, полевые воробьи, синицы, горихвостки и другие мелкие воробьиные были хорошо заметны даже с лодки.
Были и интересные находки, например мы несколько раз видели дубоносов, и не только стайками, но и парами. Когда мы показали дубоноса местным жителям, они утверждали, что встречали таких птиц и летом. Так далеко на севере эта , птица никогда на гнездовьях не отмечалась. Тетеревиные токовища возле реки встречаются уже редко, птицы уходят вглубь леса. Одно из токовищ мы нашли не на земле, а на скирде соломы. Отсюда тетеревам лучше и дальше видно. Но этот ток был прерван началом пахоты. Глухарей совсем не слышно у реки, хотя одну глухарку мы подняли на просеке, она собирала здесь камушки. Об охоте мы не думали, занимались только научным коллектированием. Ради охоты я выстрелил последний раз на глухарином току, на котором мы были с Сергеем Есиным.
На Верхней Кокшеньге деревни появлялись одна за другой, сразу по десятку в одном месте. На Новгородском Севере с очень давних пор люди ставили деревни «гнездами». Гнезд этих в Кокшеньге более десятка: Илеза, Верхняя Кокшеньга, Озерки, Шевденицы, Маркуша, Лондушка, Шебеньга, Долговицы, Ромашево, Лохта, Заборье, Верховье, Поца, Пелтасы, Тюребень, Верхний Спас, Мадовицы, Хавдоницы, Шупова, Селение. Здесь редко называют конкретную деревню, а произносится - имя гнезда: «Вы приехали в Озерки (или в Поцу)». Новичку кажется, что это название именно того населенного пункта, где он сейчас находится. Но остановись он в соседней деревне, разговор может быть точно таким. Не сразу разберешься во всем этом.
Любопытная деревня Шевелевки. Ее еще называют «Селение». Основана она беглыми рекрутами. Невмоготу была царская служба в армии, ведь по 25 лет служили, практически всю жизнь. Кто от призыва, а кто из казармы бежали сюда в лес. Так в лесу, среди болот и возникло селение. Сначала жили артелью одни мужчины, потом постепенно обзавелись женами и детьми, появилась в глухом лесу деревня. Ни реки, ни дорог. Как уж они жили без пашни, без хлеба, неизвестно. Теперь, конечно, другое дело, лес расчистили, прорубили дорогу, огороды завели. Но до сих пор стоят в Шевелевках дома на пнях. Когда строили, выбирали деревья, расположенные по прямоугольнику, спиливали их и использовали пни как фундамент.
Добраться до беглых было непросто. В этих местах много недоступных, гибельных болот. Особенно большое болото Кондасское, что в верховьях рек Порша и Кондас. Болота тянутся на десятки километров и местами совершенно непроходимы. Хорошо, что не добрались до них еще мелиораторы. Вряд ли надо осушать их. Известно ведь, что болота не только служат началом рек, но и дают нам гораздо больше кислорода, чем лес.
Верховые болота на Ерге, или «чищь», как называли их Платоны, места неопасные. Хуже, когда попадаешь на болото моховое. Его здесь именуют «мшава». На нем может расти лес, но в основном оно покрыто болотными травами и цветами, такими, как лютик, белоус, багун или звездоплавка. Поросший мхом и кочкарником верхний слой болота служит покрывалом глубокой топи. Идешь по нему, а оно под тобой ходит ходуном, словно ступаешь по пружинистому батуту. И не дай бог ступить на «окно» - маленькую полынью в зеленой трясине. Ухнешь с головой и не выберешься. Лучше такие места обходить или пройти по краю мшавы с длинным шестом, держа его в руках поперек туловища.
Маленькие незаметные окна не менее опасны больших, которые здесь называют «вадья». Открытая полынья в десятки метров шириной торфяным слоем прикрывает воду и хорошо заметна издали сочностью, яркостью своей растительности. И уж коли провалишься здесь, то и шест не поможет.
Но коварнее всего так называемые чарусы. Чарус - явление неожиданное, обманчивое. Идешь по лесу, пробираешься по сырому мху и валежнику, шагаешь через давно упавшие и гниющие стволы деревьев и вдруг выходишь на зеленую цветущую поляну. А это вовсе и не поляна, а тонкий травяной ковер над глубоким озером-колодцем. Выйдя из темного хвойного леса, хочется присесть, отдохнуть среди цветов и изумрудной зелени этой ровной лужайки. Но ступить на такую красивую луговину-значит расстаться с жизнью. Тонкое травяное одеяло не выдержит и зайца. Только кулики могут обитать на чарусах, это их царство.
Недаром в народе говорят: «В тихом омуте черти водятся, а в лесном болоте плодятся». С чарусами связано множество поверий и легенд. Свечение гнилушек, так называемые болотные огни, принималось за горящие по ночам бесовы свечи. На чарусах молва поселила болотниц - болотных русалок. Замечательно описывает их П. И. Мельников-Печерский (1958):
«В светлую летнюю ночь сидит болотница одна-одинешенька и нежится на свете ясного месяца... и чуть завидят человека, зачнет прельщать его, манить в свои бесовские объятья... Ее черные волосы небрежно раскинуты по спине и плечам, убраны осокой и незабудками, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоздушное. И блестит оно и сквозит перед лучами месяца... Из себя болотница такая красавица, какой не найдешь в крещеном миру, ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаза - ровно те незабудки, что рассеяны по чарусе, длинные, пушистые ресницы, тонкие, как уголь, черные брови... только губы бледноваты, и ни в лице, ни в полной, наливной груди, ни во всем стройном стане ее нет ни кровинки. А сидит она в белоснежном цветке кувшинчика с котел величиной... Хитрит, окаянная, обмануть, обвести хочется ей человека - села в тот чудной цветок спрятать гусиные свои ноги с черными перепонками. Только завидит болотница человека - старого или малого - это все равно - тотчас зачнет сладким тихим голосом, да таково жалобно, ровно сквозь слезы, молить-просить вынуть ее из болота, вывести на белый свет, показать ей красно солнышко, которого сроду она не видывала. А сама разводит руками, закидывает назад голову, манит к себе на пышные перси того человека, обещает ему и тысячи неслыханных наслаждений, и груды золота, и горы жемчуга перекатного... Но горе тому, кто соблазнится на нечистую красоту, кто поверит льстивым словам болотницы: один шаг ступит по чарусе, и она уже возле него: обвив беднягу белоснежными прозрачными руками, тихо спустится с ним в бездонную пропасть болотной пучины... Ни крика, ни стона, ни вздоха, ни всплеска воды. В безмолвной тиши не станет того человека, и его могила на веки веков останется никому неизвестною».
В Верхней Кокшеньге остановились у Алексея Алексеевича Тимофеевского, его дом первый, у самой реки. Алексей Алексеевич колхозник, инвалид Отечественной войны. На Ленинградском фронте ему перебило позвоночник осколком снаряда. Долго лежал в госпиталях и больницах, а теперь работает понемногу. Человек он грамотный, много повидавший и многим интересующийся. Жена его, Татьяна Дмитриевна,- доярка. Она всю жизнь прожила на Кокшеньге, что очень заметно по ее говору. Когда слушаешь Татьяну Дмитриевну, поначалу, кажется, не выговаривает она целый ряд букв, а потом прислушаешься и понимаешь, что это диалект жителей Кокшеньги. Вместо «в» она говорит иногда «б» - «обощи»; вместо «г» - «к»: «лекко», «мякко»; вместо «ж» - «з»: «зелезо», а не железо. Буква «р» заменяется иногда «л» - «пролубь», «секлетарь». И конечно, знаменитое цоканье, которое слышится здесь и в речи людей, повидавших свет. Алексей Алексеевич тоже говорит «цто», «цайник», «молцать».
Хозяин встретил нас радушно и спокойно. Два дня кормил-поил без суетливости и навязчивого гостеприимства, с большим тактом.
Удивительный здесь живет народ! По Северу можно смело отправляться в самое дальнее путешествие. Примут, накормят. Помню, в Озерках поставили мы свою палатку на берегу на виду у деревни, не хотелось в избе ночевать. Глядим, направляется к нам старушка. Подходит, достает из передника шесть картофелин и две луковицы:
- Ешьте на здоровье! Я и то гляжу, цыгане встали, тоже ведь люди, тоже есть надо. Да вы вроде и не цыгане?
- Да вроде того, бабушка, только мы не на лошадях, а на лодках. На лошадях сейчас не пробраться.
- И то... Кушайте, а я вам еще молоцка принесу.
- Вот спасибо, бабушка! У нас деньги есть, мы заплатим.
- И... милай! За все не наплатишься...
Хозяин наш, Алексей Алексеевич, отвел меня к своей тетке, Ефросинье Павловне Тимофеевской. Она сидела у дома на бревнах вместе с двумя другими старушками. Все трое одеты по-старинному, на головах «борушки» - головные уборы, шитые из парчи в виде шапочек, спереди вышиты золотом. Поверх борушек платки, сарафаны старинной формы. У Ефросиньи Павловны, которая бережно хранила вещи, напоминавшие ей прежние годы, я получил полное представление о том, как одевались на Кокшеньге сто лет назад. Ее сундуки куда интереснее всякого музея.
В Тотьме, в краеведческом музее, я видел позже национальные костюмы кокшеньгцев, но это не то... надо подержать их в руках. В качестве местного женского убора там выставлены северные кики, кокошники, шитые жемчугом.
Но это архангельские головные уборы. Такие я видел на Ерге и описывал выше. Когда я робко подсказал директору музея Екатерине Павловне Соломенко, что кика скорее архангельское украшение, женщины на Кокшеньге носили борушки (на Сухоне их называли конуры, в других местах- сапшуры), она согласилась со мной и сказала, что теперь борушки невозможно найти, негде их взять.
И вот мы с Ефросиньей Павловной Тимофеевской вынимаем из сундуков и раскладываем по стульям, кровати и лавкам старинную одежду. И не только женскую, но и мужскую.
Вы любите искать клады? Клад обычно представляется в виде золота и драгоценных камней, поиски его чаще связаны в нашем представлении с заморскими странами и пиратскими картами, с приключениями и убийствами. И тем не менее это был настоящий клад, правда несколько особый. Никто и никого не думал убивать, дело происходило не на коралловых островах, а в России, и здесь не было алмазов с куриное яйцо. Я ничего не забрал с собой, не набил рюкзак этими драгоценностями, все уложили обратно в сундуки. И все-таки я чувствовал себя счастливцем, нашедшим клад.
Попробую я описать его, рассказать, как одевались люди на Кокшеньге сотню-полторы лет назад. Одежда была обыкновенная и праздничная. И у мужчин и у женщин. Теперь мы тоже на праздник надеваем новый пиджак или лучшее платье. Но это все тот же пиджак, только новый, и все то же платье определенной, в соответствии с модой, длины и формы, только красивее. Пальто, скажем, у нас одно, и на праздник то же - зимнее и осеннее. Раньше было иначе.
В обыкновенные дни мужчины носили здесь холщовую рубаху и порты, на ногах - лапти или бахилы из кожи; зимой - катанки (валенки) из овечьей шерсти, балахон, или азям, из сукна, овчинный полушубок. Если полушубок засаливался, покрывали его окрашенным в древесной краске - сандале холстом. На голове летом - поярковая шляпа, реже суконная фуражка; зимой - бесхитростная меховая шапка (единственное, пожалуй, из русской одежды, что можно увидеть на наших современных мужчинах).
В праздник и мужчины надевали ситцевую рубашку. Ситец был самым дорогим из тонких материй. Если не могли его купить, то рубашка шилась из домашней пестряди (самодельная набивка по холсту) или из тонкого холста, с вышитым воротником. Штаны носили суконные, кто побогаче- нанковые, а щеголи красовались в плисовых. Суконный или плисовый жилет, был обязательной принадлежностью костюма. Кафтан шился из сукна, а кто победнее - надевал нанковый казакин из домашнего сукна. Иногда под кафтаном носили еще плисовые или суконные камзолы. Шились они длинными, по колено, с медными пуговицами в два ряда и двумя карманами по бокам. На зимние праздники приберегали специально праздничный овчинный тулуп, крытый сукном, и подпоясывались красным кушаком. Кушак этот был шерстяным или гарусным, а у богачей и шелковым. Вообще, кушак являлся украшением, самой яркой и самой, пожалуй, дорогой частью мужской одежды, как у женщин вышитая борушка или гайтан с крестом. О гайтане я еще скажу.
Наиболее дорогими были знаменитые красноборские кушаки. Они изготавливались в Сольвычегодском и Устюжском уездах, и особенно славились кушаки заштатного города Красноборска и его окрестностей. Плели их из шерсти молодых ягнят. Такой кушак в аршин шириной легко проходил в кольцо с руки. Стоил он до 15 рублей. Дорого по тому времени.
Суконный картуз или поярковая шляпа украшались в праздник лентами и оловянными пряжками. Зимой на голове шапка с широким меховым околышем, нередко бобровая. Называлась такая шапка распашней или туркою. И ко всему этому - красные меховые руковицы. Красиво.
Но еще красочнее, еще красивее одевались женщины. В будние дни это была холщовая рубаха, обычно белая, реже синяя. Холщовый сарафан, окрашенный в синем сандале и с лямками на плечах. Он назывался здесь красик. На ногах - лапти с холщовыми онучами. Девушки ходили с непокрытыми головами или повязывались платком, а замужние женщины носили эту самую борушку. Поверх нее - платок.
А вот в праздники на белую холщовую рубаху, иногда с ситцевой вставкой, обшитой по краю красными бумажными полосками, надевался яркий ситцевый сарафан. У богатых женщин бывали штофные или парчевые сарафаны. На ногах чулки и чарки, так назывались здесь кожаные женские башмаки. Плетеный пояс был поуже мужского, но тоже яркий, с преобладанием красного цвета. На Шее серебряный гайтан с большим крестом и два наборочника, вышитые золотом и с жемчужными вставками - один так называемый «прямой», шириной в палец, другой покосный - дугообразный.
Гайтан подарила мне жена Степана. Он плоский, шириной сантиметра два с половиной и весь спаян вручную из изогнутых тончайших пластиночек. Даешь его в руки кому-нибудь из московских приятелей, и он ничуть не удивляется - плоская цепочка, и все.
- А ты посмотри, посмотри внимательно,- скажешь ему.
Приглядится человек и ахнет:
- Неужели спаяно?!
Спаяно. Несколько тысяч колечек диаметром 1,5-2 миллиметра. Каждая пластиночка вручную согнута и спаяна. И аккуратно так, что и не заметишь. Теперь-то в нашем производстве все это делает машина, а каково было плести такое кружево триста лет назад? Руками? Что за мастерство должно быть? Не мастерство, конечно, а искусство. Делались гайтаны в Великом Устюге из серебра.
Голову девушки повязывали по праздникам шелковым платком, и это называлось почему-то «повязаться большой головой». Богатые сверх того покрывали голову еще большим шелковым платком, концы которого распускались по спине. Замужние женщины носили парчовые, шелковые или штофные борушки с причудливыми золотыми узорами спереди, на лбу. Вышивали, конечно, вручную.
В зимние праздники женщины носили покрытые сукном шубы, а в летние - суконные кафтаны, покрой которых почти не отличался от мужского. Для ситца, сукна, парчи, штофа и полушалка в женских нарядах предпочтительным цветом в Кокшеньге был красный. Только холст был белым. Прекрасный материал - льняной холст. В наш век бурного развития химии синтетических волокон льняное полотно стали ценить, а совсем недавно считали, что холст отжил свой век и никому не нужен. Льняную рубашку или платье из льняной ткани не очень-то теперь найдешь в магазинах, разве что в магазине подарков. Лен не заменить ни капроном, ни лавсаном, ни нейлоном. И не только я так думаю. Русский лен снискал себе мировую славу. Итальянец или африканец, спасаясь от изнурительной жары, отлично чувствует себя в прохладном льняном костюме. Зимовщикам Антарктиды и Арктики, одетым в льняное белье, не страшны самые лютые морозы.
Холщовая одежда всегда была белой, как снег, чистой, красивой. В те времена ее не стирали мылом (мыло для деревни считалось дорогим удовольствием), а бучили. Бук - это кадка ведер на пятнадцать. В нее закладывали льняное белье, а сверху накрывали холщовым полотнищем. Поверх полотнища клали золу. Раскаливали в печи камни и бросали их в кадку под прикрытие. Вода кипит, зола проходит сквозь полотно и делает его чистым, белым да заодно и стерильным. Ситец нельзя бучить, расползется, а льняные вещи стирали таким образом, и ничего им не делалось.
Но вернемся к нашим сундукам. Особенно долго вертел я в руках совсем еще новую борушку из зеленого атласа, не мог насмотреться на ее золотое шитье, нарадоваться сочетанию этих двух цветов..
- Вижу, сынок, нравится тебе борушка ,- сказала Ефросинья Павловна, - но я тебе ее не отдам. Всю жизнь берегла ее, дура, и теперь берегу, не знаю зацем. Вот, думаю, все жалела, не износила в молодости, а теперь умру, все пропадет. А все-таки жалко...
Нетрудно было ее понять.
- Я не собираюсь ее просить, - успокоил я старушку,- мне она ни к чему. Просто любуюсь, красивая вещь.
- Пять рублей двадцать копеек я за нее отдала. Не всякая могла купить такую-то. Я тебе другую дам и поясок, - старуха полезла в сундук.
- Не надо, Ефросинья Павловна, - остановил я ее, - пусть у вас будет. Вы берегите все это, мне думается, скоро пригодится.
- Поще пригодится-то?
Вот что за край - наш Север. Здесь музей можно создать при каждой школе, а уж в районных центрах и подавно!
- В комсомольской организации Озерков 36 человек, - бойко докладывала мне Тамара Локтева, комсомольский секретарь. - Трое учатся: библиотекарь Надя - студентка второго курса педучилища, Вася Шемякин и я. Вася и Тамара учились в сельхозтехникуме. Познакомились мы с ней у председателя колхоза Озерки Николая Савватиевича Курбатова. Сидели как-то после бани на крылечке, а она подкатила на велосипеде - худенькая, загорелая, в белых кудряшках и с натруженными руками доярки. Председатель ушел в правление, а мы с Тамарой разговорились.
- Кружков у нас нет, некому руководить. Настя-библиотекарь ставит сценки. Спортом не занимаемся, спортплощадки нет, - отвечала она на мои вопросы, - вот Николай Савватиевич деньги выделил нам на спортплощадку, да не знаем, как строить. Вообще-то он помогает нам, ни в чем не отказывает.
- Ну, со спортплощадкой мы сейчас разберемся, - обрадовался Шорохов, нашлось дело и для его бурной энергии, - пойдем, посмотрим.
Они обошли вдвоем деревню, выбрали место для небольшого стадиона, и Веня подробно, с указанием всех размеров, вычертил его план на бумаге: футбольное поле, площадки волейбольные и баскетбольные, стометровка, яма для прыжков, перекладина, трапеция. На этом он не успокоился и начал развивать планы постройки трибун для зрителей, но Тамара несколько охладила его пыл, решительно заявив, что до трибун дело не дойдет. Однако она осталась довольна и согласилась, чтобы я присутствовал на заседании комсомольского бюро. Оно должно было состояться завтра вечером.
Пока собирались члены бюро, я осмотрел библиотеку. И был поражен, когда увидел Домнера, Мелвилла, Кента, Экзюпери, Брейна, собрания сочинений Купера, Лондона, Шоу, Шекспира, Твена и полные собрания сочинений русских классиков.
Собрались симпатичные ребята - заведующая клубом, шофер Коля, две девочки, имен которых я не запомнил, Настя, Тамара. Девчата приоделись, на каждой был плащ, хотя дождя не предвиделось, за стеной гремел проигрыватель.
Я предупредил Тамару, что только посижу и послушаю, просил ее проводить бюро как обычно. На повестке дня стоял один вопрос: обсуждение письма райкома. Надо было собрать металлолом (три тонны) и макулатуру, посадить каждому по нескольку деревьев и поставить в агитбригаде сценки. Пятьдесят процентов от стоимости макулатуры и металлолома шло в комсомольскую «копилку».
- А какие песни вы поете в самодеятельности? - спросил я.
- Разные, - Тамара стала вспоминать и перечислила несколько песен советских композиторов.
- Вот у меня возникла идея, - не утерпел я. - А что если собрать вам местные песни и устроить народный хор? И не только с песнями, но и с местными танцами, костюмами, традиционными хороводами...
Чтобы немного расшевелить их, пришлось рассказать об успехах подобных танцевально-хоровых коллективов, развить заманчивую перспективу выхода с таким репертуаром на районную, областную и даже республиканскую сцену. Описал им клад Ефросиньи Павловны, а они заверили меня, что «такого добра» в каждом доме полно, только они не знали, что это может быть интересно.
А это действительно интересно. Песни, танцы и хороводы, расшитые платки, борушки, яркие сарафаны, кафтаны, подпоясанные красными кушаками,-все это в первую очередь красиво. Именно об этом говорил устами своего героя известный современный писатель: «Я под духовной жизнью понимаю красоту, которой окружает себя человек, проникновенное понимание этой красоты, глубокое удовлетворение, глубокую радость от ее понимания. Главнее же всего - активное участие в создании красоты. То есть не только восприятие, но и соучастие, а может быть, даже чистое творчество».
- Если вы сейчас не сделаете этого, - закончил я, - через несколько лет все может быть безвозвратно утрачено: традиционные и обрядовые песни, танцы и хороводы окончательно забудутся, а ваши национальные костюмы, настоящие, кокшеньгские, придется восстанавливать по эскизам музеев.
Ребятам понравилось. Они увлеклись, заговорили все сразу, стали строить планы. Я ушел в свою палатку довольный.
При свете свечи мы обрабатывали добытых птиц, снимали шкурки, набивали тушки, писали этикетки. Веня быстро научился снимать шкурки и стал мне хорошим помощником. Я рассказывал ему о разговоре с ребятами.
- Сейчас у нас мотивы русской одежды стали входить в моду, - сказал он.
Я задумался. Мотивы? Почему только мотивы? И что такое мода? Никогда не мог я понять и принять моду. Брюки узкие, брюки широкие, джинсы, кожаные куртки. Вдруг все одеваются в одно и то же. Эстонцы, казахи, русские, грузины. Все становятся одинаковыми. Стереотип, стандарт, бездумное подражание. Кому? Чему? Зачем?! За этим стремлением быть как все теряется наша индивидуальность, то есть то, что определяет каждого из нас как человека. Подчеркивается только одна сторона - я вот смог достать себе фирменные джинсы или заграничную кожаную куртку, а ты нет. Стало быть, я в этой жизни значу больше, чем ты. Какая глупость... Мало того, всякий штамп - это прежде всего пошлость. Как мы обедняем себя этой пошлостью!
- Представь себе, Веня,- сказал я,- что моды в том понимании, в котором она сейчас существует, нет. Нет и все. Нет моды. Вообразить можно все. Вот и вообрази. Как тогда одеваются люди? Например, так, - начал я фантазировать. - Они выбирают себе костюм своего народа и той эпохи, исторической эпохи, своей страны, которая им больше всего по душе. Вот приезжаем мы с тобой в Москву, выходим на Комсомольскую площадь и видим: один идет в боярской епанче, другой - в камзоле и в чулках петровского времени, третий во фраке, четвертый в сюртуке, пятый в толстовке. А этот собрался в гости или на свидание с любимой - кружевное жабо, кружевные манжеты, шелковый камзол...
- И при шпаге...- подхватывает Шорохов.
- Да. А что? И при шпаге. А его любовь - в длинном платье с кринолином. Торжественно, красиво, подчеркивает важность момента, его особенность, своеобразие. Своеобразие, Веня, а не стереотип.
- Неплохо, - соглашается он. - А мы с тобой выходим на площадь в холщовых рубахах и поярковых шляпах, в ступнях и с берестяными пестерями за плечами.
- Я согласен. Мы приехали из Кокшеньги, мы окунулись в историю этого края, полюбили его, и вот мы сегодня в холщовых рубахах.
- А что делать, если каждому захочется быть боярином и никто не станет одевать холопской одежды? - усомнился в безукоризненности моей бредовой идеи Шорохов. - Как тогда?
- Веня... У нас же государство рабочих и крестьян. Это будет считаться нескромным. Только выходцы из деревни в первом поколении будут рядиться боярами, а ученые, писатели, руководители, чтобы подчеркнуть свое происхождение и свою демократичность, станут одеваться в костюм своего народа, своей области, своего края.
- А если мы видим человека в джинсах, значит, это американец? - он отвернулся, но я знаю, что он улыбается.
- Да. И не просто американец, а американец из южных штатов. Или человек, которому Америка нравится больше, чем Россия. Нет, ты представляешь, какое богатство самовыражения? Взгляды, склонности, тончайшие оттенки настроений, чувств, привязанностей - все это можно выразить одной только одеждой. А по площади снуют люди в черкесках, в бухарских халатах, в украинских расшитых рубахах! А женщины, женщины! Вот где развернутся их фантазия, их вкус, их умение одеться так, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Это тебе не мини-юбки, которые одели одно время все женщины, молодые и не очень, с красивыми ногами и некрасивыми. Вспомни, как обезобразила некоторых из них эта мода.
- Тебе бы пошел, Саня, монашеский костюм с такой шапочкой, знаешь...
- Круглая и заостренная?
- Да.
- Скуфия. Нет, зачем же. Моя любимая эпоха - первая четверть прошлого века. Отечественная война, Пушкин, декабристы... Как повседневную одежду я носил бы университетский кафтан. Форма для студентов Московского университета была введена в тысяча восьмисотом году и продержалась до шестьдесят первого года. Кафтан темно-зеленого сукна с красным воротником, обшлагами и подбоем. С красным подбоем... Представляешь? К университетской форме полагалась шпага, даже студенты ее носили. А в праздничные дни я выбирал бы одежду в зависимости от настроения и случая.
- Нет, неправильно, - решил мой товарищ. - Каждый должен носить костюм своего края, того места, где он родился.
- «Должен» - это уже не то... Тут нужна полная свобода. Иначе человек не сможет полностью выразиться, проявить свое отношение к миру, свой вкус. В этом отношении мы никому ничего не должны. Если человек чувствует себя патриотом своего края, своей родины и гордится своим происхождением, то он надевает костюм своих дедов. А другой пусть носит майки с рожами или с газетным текстом и куртки с лозунгами, написанными по-английски. Его дело. Именно полнейшая свобода в выборе одежды и обогатила бы человечество. А тут мода...
- Того и гляди лопнут проклятые джинсы, - сказал Веня. В палатке вдвоем работать тесно, он сидел, скорчившись, в неудобной позе, вытянув одну ногу, а вторую подложив под себя.
Послышались шаги, и шепот.
- Вы не спите? - раздался голос Коли.
- Можно к вам? - а это уже Тамара.
- Конечно, конечно, - обрадовался я. - Залезайте! В тесноте - не в обиде.
Мы проговорили до утра, до тех пор, когда ребятам пора было идти переодеваться для работы. О чем только мы не мечтали! Решено было создать при клубе небольшой краеведческий музей, уголок истории. Собрать в нем старинную утварь, орудия производства и одежду. Первую свадьбу в сельсовете решили провести с соблюдением старинных обрядов и в национальных костюмах.
Возможно, мы немного увлеклись, но я уверен, что-то из наших планов все же осуществится. Хорошо бы свадьба! Если заранее все подготовить да провести с сохранением основных, наиболее красивых обрядов, это понравится всем - и старым и молодым. У жениха с невестой останутся воспоминания на всю жизнь, а пожилые с удовольствием вспомнят былое. Там, глядишь, по ее образцу и другая свадьба, и третья... Старшие охотно помогут, раскроют для такого дела свои сундуки, вспомнят песни, хороводы, танцы. Ну, прямо впору оставаться в Озерках и дожидаться первой свадьбы! Ничего, конечно, в таких случаях нельзя утверждать, но мне показалось, что идея такой свадьбы понравилась Тамаре и Коле не случайно.
Позже я отыскал несколько книг с описанием свадебных обрядов Вологодской области. Подробно и очень интересно описывает в своих многочисленных статьях и книгах эти обряды, так же как и верования, предания и сказки Кокшеньги, М. Б. Едемский (1905), профессор Ленинградского университета и местный уроженец. Но больше всего понравилось описание свадьбы на Кокшеньге, найденное в «Вологодских ведомостях» за 1857 год. Составлено оно головой Спасского приказа В. Поповым. Начинает автор так: «Наша русская пословица говорит: «что город-то норов, что деревня-то обычай»; действительно, если рассмотреть все обычаи и обряды, существующие на Руси, то можно вполне справедливо удивляться их разнообразию. Из особенных обрядов и обычаев Кокшеньги отличаются большею замысловатостью - свадебные ».
Можно было бы привести это описание вологодской свадьбы полностью, но оно длинновато, да и далеко не все ведь следует переносить из старых обычаев в наш сегодняшний день. Вряд ли приемлемо теперь сватовство, основанное по существу на выторговывании приданого. Или причитания невесты, в которых она «оплакивает любимые ею поля, луга, рощи, долины». Некоторые из обычаев были просто унизительными, например: «После венчания на молодой лежит трудная обязанность: по прибытии в дом мужа она должна не только каждому из родственников, но и всем посторонним, которые соберутся в дом,- а их собирается весьма много,- поклониться в землю два раза и поцеловать каждого, не исключая и малолетних детей, и этим еще не кончается: она должна кланяться так каждому, кого увидит в первый раз по выходе замуж, в продолжение нескольких недель, и если бы сосчитать все такие поклоны, то вышло бы у другой молодой несколько тысяч».
Но застольные обычаи и обряды, езда на тройках, песни, игры и хороводы доставили бы людям и теперь немало радости. Особенно красивы местные хороводы. Они спокойны, величавы и сопровождаются песнями. Плясок не бывало раньше в Кокшеньге, ибо «забаву эту считали здесь за большой грех, называя ее дьявольской». Хоровод тоже танец, но он столько же похож на пляску, как вальс на шейк. Мне не удалось увидеть вологодских хороводов, но говорят, изредка возникают еще кое-где горки - сохранившиеся до наших дней обрядовые танцы с пением. Начинают их люди пожилые, а к ним и молодые присоединяются.
Сохранились посиделки. Конечно, в несколько измененном виде, что вполне естественно, но еще существуют. Только девушки собираются теперь зимой не с пряслицами, а с проигрывателем или магнитофоном, и не всегда в избе, иногда в клубе, но по существу это те же посиделки. Собираются девушки, поют, танцуют сначала одни, потом приходят к ним молодые парни. Ну, ясно, хороводов не водят.
Особенно приятно было узнать, что сохранилась на Кокшеньге старинная русская традиция «делать помочи». Во время страды крестьянин раньше приглашал из своей и соседних деревень словами: «Гостите на помочку». Парни и девушки приходили к полудню и до позднего вечера с песнями и весельем работали в поле. Вечером возвращались к хозяину, ужинали, а потом до утра водили хороводы. Хлеб теперь жнут машинами, но если кому-то нужна помощь односельчан, например, при строительстве дома, то еще прибегают к этому обычаю, устраивают «помочи».
Прекрасный обычай, как и большинство других кокшеньгских обычаев - красивых, благородных и истинно русских. Как нам сохранить их? В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин (1955) говорил: «Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»»?
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'