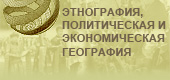
Пребывание в Милдьюре (штат Виктория)
Вечером я проявил негативы свои и миссис Райт. В Милдьюре мне пришлось остановиться, так как ближайший коч (пароходом возвращаться я уже не хотел) до железной дороги ехал в четверг (дважды в неделю). Но прожить мне пришлось все-таки дольше четверга.
В среду осматривал город. В нем около 4000 жителей (в Моргане несколько сотен). Милдьюра очень разбросана и живописна только у Муррея. Самый город казенного вида, имеет много лавок и два клуба. Окрестности славятся ирригационными работами и культурой апельсинов, лимонов, винограда, яблок, фиг, слив и смородины.
Зайдя в магазин купить папирос, познакомился с немцем торговцем Мюллером. Он свел меня к фотографу Годсоллу, у которого я накупил фотографий, и познакомил меня с д-ром Абрамовским (немцем). Последний в беседе со мной сказал, что все интересующие меня сведения о туземцах и фауне я могу получить от некоего мистера Брайтона.
В отеле мистер Райт познакомил меня с мистером Гибсоном (шотландцем), который взялся устроить с пользой мое здешнее пребывание. Я был представлен мистеру Тейлору, репортеру Милдьюры и Мельбурна, который со мной и миссис Райт отправился на поиски миль за пять все за неуловимым Брайтоном. Поиски эти тоже были безуспешны, но были полезны в качестве инспекционной прогулки по местности.
В окрестности на красной почве выращивались обычные виды культурных растений. В некоторых местах мы проезжали участки нетронутой кустарниковой растительности обычного австралийского вида. В одном месте видели подготовку или окончание корчевки природных деревьев для обработки участка под поле или посадки, в другом - кирпичный завод. Глину месила лошадь, вращавшая рычаг и погоняемая «боем». Рабочий лепил кирпичи и направлял их в горн, где они выдерживались в течение четырех суток. Некогда здесь были воды Муррея, об этом говорит глиняно-илистая, гладкая, бестравная почва, с редкими деревьями бокса и др. Завод стоит на берегу мощного потока накачиваемой воды. Поток этот - настоящая река, затопившая и, кажется, даже погубившая высокие эвкалипты. В полую воду поток наполняется естественно, в межень и в малую воду - при помощи двух сильных паровых водокачек. Верхнюю я видел только издали, нижнюю, ближайшую, посетил. Это - небольшое здание заводского типа. В нем установлена большая паровая машина, беспрерывно качающая 32 000 галлонов в минуту (галлон - около шести бутылок). Две огромные трубы (более метра в диаметре) отводят воду в верхний канал, где она, бурля при выходе, утекает ниже. В сторону она отводится тоже по трубе. Водокачальная машина снабжена поливными (предохраняющими от нагревания оси) трубочками-кранами.
Ехали мы на повозке Тейлора. То была рессорная платформа с сиденьем для трех. Старая лошадь везла нас очень тихо, останавливаясь на всех подъемах, но Тейлор и не собирался ехать скорее, к великому моему неудовольствию и скуке. В 6 часов с минутами мы вернулись, и я докончил вирирование своих снимков, отпечатанных еще днем. Вечером был в клубе. Это двухэтажное (первый этаж подвальный) здание. Видел только большую читальную комнату с массой столов с журналами и обычным камином и комнату для разных трапез и игры на биллиарде. В читальне было трое, в биллиардной никого. Мы присели за столом, выпили вина, и когда подошли еще двое (венгерец из окрестностей Будапешта и субъект с трясущейся рукой), беседа быстро свелась на мою специальность. Мы проболтали с час о ядовитых животных, причем венгерец рассказал, как он был укушен здешним пауком. Благодаря принятой дозе брэнди он остался жив, но был в забытьи четыре дня и встал на ноги только через три недели.
Сегодня, 20 августа, приведя в порядок письменную часть, решил окончательно остаться здесь и поискать счастья по части коллекционирования.
На другой день, в четверг, только что я, покончив с письмами и отослав их на почту, отправился к Мюллеру занести ему русскую марку, мне сказали, что в отеле меня дожидается Брайтон. Брайтон оказался стариком около 70 лет, настоящим бушменом, приземистым, с перевалистой походкой, одетым по-бушменски в рубашку, брюки с подтяжками наружу и мятую фуражку. Он оставил у ворот свой воз с дровами и пришел поговорить со мной. На все вопросы Гибсона он отвечал одно «йес, сэр», и вопрос о моем пребывании у него на бивуаке (камп) был улажен в несколько минут. Он предложил мне только запастись одеялами, остальное же, по его словам, включая апельсины, имеется-де у него в лагере.
Сборы мои были недолги. Хозяйка отеля дала мне лишнее одеяло; я сложил вещи, зашел к Мюллеру купить табаку для черных и аксессуары для еды, так как Брайтон, по слухам, был болен какой-то болезнью. В это время Брайтон ездил сдавать свой воз с дровами и делать покупки для себя и по поручениям. Когда все было готово, мы отправились к нему в лагерь уже знакомой мне дорогой мимо ирригационных полей. Дорогой Брайтон рассказывал мне про фауну местности и про долгие проведенные здесь годы. Сам он родом из Корнуэлса и имеет там родную племянницу. На мой вопрос, сколько у него детей, он сначала сказал: «Четыре сына и четыре дочери», потом подумал и сказал: «Три дочери и пять сыновей». Через два часа мы дошли до лагеря, уже к заходу солнца.
Лагерь стоит около накопленной воды и неподалеку от второй водокачки, шум которой слышится неумолчно. Водокачка работает шесть недель. Затем шесть дней молчит, пока опять не понадобится вода. Было облачно и потому тепло. Мы славно поужинали неподалеку от палатки, у очага, который постоянно хранит огонь (два-три дня), так как, уходя, Брайтон покрывает его пеплом. Ели мы колбасу, пили чай с хлебом, маслом и кексами: запасы у Брайтона хороши - вино-кларет, яйца, приносимые иногда соседями его лагеря, копченая рыба, мясо, мука, картофель, апельсины, сушеные абрикосы, лимоны, чай и сахар. Брайтон не курит - здесь это удивительно.
Я отлично выспался. С восходом солнца, часов в 7, я встал и мылся холодной водой из железной чашки. В этот же день мы отправились на экскурсию. Пройдя мелким редким лесом по бывшему ложу разливной воды, мы вышли на места, которые являются как бы остатками от разливов Муррея и, кажется, отчасти и от накаченной воды.
Кругом разрушение. Лес преисправно рубится. Гиганты эвкалипты лежат поваленные. Их кора сохнет, и, когда облупится, деревья раскалываются на части и рвутся порохом на дрова. Для натуралиста это места хорошей поживы: зимой легко добыть скорпионов, многоножек, жуков и ящериц из их убежищ под корой и в щелях. Летом здесь много змей.
Пройдя немного далее, мы вышли на берег Муррея, слабо осененного кронами эвкалиптов. Поэкскурсировав и убив несколько птиц, мы в час дня вернулись пить чай, после которого я до ночи занимался препарировкой шкурок. Ночью было холодновато.
В субботу Брайтон уезжал по делу и вернулся в 5 часов. Я экскурсировал один; видел пилку дерева, добыл двух змей, одну из норки за хвост, другую нашел под корой облупленного мной упавшего дерева. Спрятал на память кору с выгрызенным в ней «М». Грустно было смотреть на печальную картину исчезающего леса.
Воскресный день решил посвятить посещению австралийцев. Их стан находится от стана Брайтона приблизительно в пяти - пяти с половиной милях. Я встал в 7 часов, и после обычного завтрака и чая мы отправились в путь. Шли по берегу озера из накопленной воды. Убили кукушку (за ней гналась птичка).
Затем перешли дамбу, за которой пошел редкий лес били-бома. Вступив в более изолированные места, принялись усердно перевертывать все попадавшиеся по дороге куски коры. Под одной из них Брайтон нашел большую ящерицу, которая и попала в мою коллекцию сначала живой, а на другой день уже мертвой. Несмотря на мои два удара с размаху по позвоночнику, она очнулась, и я было решил сохранить ее живой, но, увы, ночью она, недостаточно укутанная, околела от холода: для нее ведь это время было еще настоящей зимой, она же истощена и ошеломлена ударом.
Пройдя били-бом, мы вышли на берег Муррея, где Брайтон убил мне еще несколько птиц и пропуделял [промазал] по кролику. Берегом прошли мимо чьего-то стана - кажется, порубщика - и вышли к стану черных. Это были шесть хижин, выстроенных правительством Виктории из гофрированного железа.
Здесь жило около 30 аборигенов. Правительство, которое они называют мистером Говернемент (господин Правительство), дает им кров, платье, одеяла и табак. Черные очень одобряют такое действие господина Правительства и просили не раз Брайтона передать ему их благодарность, прибавляя, однако, что не худо бы им прибавить еще и ботинки, в которых стали нуждаться их изнежившиеся ноги и к чему их побуждает кокетство, привившееся к ним с культурой.
Но белые тайно доставляют спиртные напитки туземцам и сцаивают их. Тогда туземцы начинают вести себя так же, как и «цивилизованные» белые в подобном состоянии.
Наше посещение застало их в один из таких «веселых» дней. В стане были не одни черные, хотя мы сначала и не видели снаружи никого, но под навесом стояла повозка. Однако из первой же избы-хижины слышались пьяные голоса, и первое лицо, которое я увидел, была пьяная туземка, упавшая при первой же попытке выйти из хижины. Туземка была вся в крови, почему Брайтон справился, не дерутся ли они там. Но язык отказывался повиноваться женщине, и она бормотала что-то очень несвязное, со смехом смотря на Брайтона и учащенно повторяя: «Но, мистер Брайтон» и «Йес, мистер Брайтон». Вслед за женщиной вышел пьяный туземец в неполном костюме бушмена. Это был седой бакенбардистый субъект.
Брайтон счел почему-то нужным для большего успеха представить меня в качестве «господина русского Правительства», желающего добыть разной утвари и сфотографировать их. «Оцивилизованный» австралиец тотчас же выразил желание получить за фотографирование его персоны полкроны. На наш разговор вышел новый туземец, широкогубый и лохматый, но без бороды. Он также был старик, и вся грудь его была сильно покрыта густыми седыми волосами. Узнав,, что я тоже господин Правительство, он вытер о грудь и платье свою руку и только тогда поздоровался. Между нами произошел разговор, скажем прямо, мало понятный: слишком много паров вина сидело в голове моего собеседника. На вопрос о продажном оружии первый туземец сказал, что «готового» нет и предложил мне купить из связки только что начатых копий, но я наотрез отказался как от таких копий, так и от платы деньгами, а особенно вином (это предложение тоже было).
После этого мы отправились пытать счастья у других хижин. Брайтон с каким-то «оружейным» вопросом обратился к туземке, курившей трубку. Она сидела около пепла на земле, глядела смеющимися глазами и тоже ответила отрицательно.
Из предпоследней хижины вышла еще одна туземка, по словам Брайтона, самая интеллигентная в стане. Ей было 50 лет с хвостиком. Каждый туземец, к которому мы обращались, просил «снять капсюль с ружья», чтобы не выстрелило. С этого же предложения начала разговор и толстуха, боясь случайного выстрела. На вопрос об оружии она отвечала отрицательно.
К нам подошли снова прежние туземцы - собеседники и очень надоели мне попытками вступить в пьяный разговор с «господином чужим Правительством». Они трогали мою ящерицу и банку со спиртовой коллекцией. Один из них начал мне рассказывать, что был во Франции, но побеседовать на этот счет в данный момент уже не было никакой возможности.
Один из туземцев ушел в хижину, в которой виднелся и пивший заодно с ними белый. Другой туземец после неудачной попытки выпросить у Брайтона ружье для убиения стрекотавшей в кустах птахи в мою коллекцию достал откуда-то одностволку и начал приставать к толстой туземке, чтобы она дала ему заряд. Ружье в руках пьяного туземца меня очень смущало, и я решил уйти из лагеря возможно скорее.
Сняв тайком (под видом осмотра аппарата) фотографию стана, мы улучив минуту скрылись в прибрежных кустах. Предварительно, чтобы освободиться от любопытства и расспросов, я сказал, что день для фотографирования неудачный: туземец решил, что действительно «сегодня очень ветрено». С меня и такого визита было довольно: я повидал черных в много говорившей исследователю современной Австралии обстановке.
Мы быстро удалились от стана и Муррея, повернув домой более короткой дорогой. Около дамбы Брайтон вступил в продолжительный разговор о каком-то «деле» (по рубке леса) с одним из порубщиков. У меня болела натертая нога, и я досадовал на такую остановку: один я путь назад найти еще не мог. Мы прошли вдоль дамбу и пошли берегом накопленной воды, где Брайтон подстрелил мне попугая и других птиц. К трем часам мы вернулись и пообедали сосисками (весьма жирными и переперченными) и яичницей. Засим я принялся за препарировку шкурок и дневник. Вечером лег пораньше, так как решил завтра, в понедельник, повечеру уехать.
Утром принялся доканчивать старых птиц и препарировать новых, убитых Брайтоном за день (горлинка и попугаи). Брайтон же бродил по окрестностям, отыскивая свою лошадь, которая не пришла сверх обыкновения к корму (сенная труха с мукой). Лошадь, однако, пригнал один из соседей верхом, и мы в 5 часов тронулись.
Когда вполне стемнело, приехали в Милдьюру, причем на этот раз оба мы сели на повозку (род тачки). Ехали, однако, шагом, так как лошадь Брайтона другого аллюра в упряжи не признавала. Брайтон живет одиноко: по делу его часто посещают ради привозимых им по поручениям заказов, закупок, а то и так, ради посещения. В стан его часто приходила соседняя «леди» с двумя детьми, довольно грязная женщина, занимающаяся, кроме хозяйского дела, стрелянием уток и продажей их Брайтону. Брайтон добывает и рыбу. Как-то утром Брайтон уверял меня, что в одной рыбе в плавательном пузыре всегда фотографируется прибрежный эвкалиптовый лес. Я, разумеется, попросил доказательств, так как эта басня распространена здесь. Мне такую рыбу Брайтон доставил, и означенная фотография оказалась разветвлением кровеносных сосудов, действительно картинно расположившихся и дающих представление о прибрежных деревьях. Такое объяснение моих спутников не убедило: они по-прежнему верили в фотографические способности плавательного пузыря.
Палатка, в которой Брайтон спал, годна для четырех. На полу лежало много мешков, а в одном углу постель, которую устраивают так, чтобы покрывала изобразили собой мешок, в который спящий и забирается, проводя всю ночь неподвижно на одном боку. В дождливую летнюю погоду под такую постель забираются многоножки, скорпионы, а иногда и змеи. Последних Брайтон «допускает», даже считает полезными,, так как они-де истребляют мышей, портящих его запасы. В мое пребывание Брайтон спал снаружи, у «большого огня», за которым он следил, просыпаясь раза три в ночь.
В Милдьюре, где Брайтон рассказал про меня как человека, не смущающегося тяжелой жизнью бушмена, презирающего холод, меня встретили очень радушно. Наутро запасся билетом в дилижанс, идущий к Новинжи. Дилижанс - старая, но еще крепкая повозка-карета с тремя сиденьями впереди и восемью внутри. Если она полна, то путешествие в ней ужасно, тем более что «пути» в Новинжи нет, а едут прямо но бушу, колыхаясь, колотясь и пр. Я сидел внутри с какой-то дамой, которой меня представили, и вынужден был развлекать ее разговорами и оберегать от танцующих чемоданов. Она ехала к умирающему отцу.
Мы ехали редким лесом, среди которого под конец стали попадаться заросли ежовой травы. Иной раз лес сменялся кустарниковой растительностью.
Местами ехали между деревьями, среди которых кучер лавировал, ловко правя четырьмя лошадьми. Были и остановки: сначала для приветствия англиканскому епископу, ехавшему на частной повозке в ту же Новинжи, а затем для передачи писем и для обычных разговоров с попутными рабочими о том о сем. В 2 часа подъехали к началу достроенной дамбы, по которой иной раз, к опасению моему и моей спутницы (насыпь не была огорожена), кучер направлял лошадей. Местами была яркая зелень с желтыми цветами.
Через 22 мили у начала рельсового пути сменили лошадей. На этой станции люди живут в холщовых хижинах-балаганах (шатрах). Рельсовый путь показался мне шире, но, судя по дальнейшему, это, по-видимому, ошибочно. Остальные 10 миль были особенно тряски, и я был очень рад, когда мы в 6 часов вечера добрались до Новинжи. Как эта, так и ближайшие железнодорожные станции очень примитивны, построены большей частью из гофрированного железа и оставляют впечатление временных. Мы поужинали в Новинжи и в 7 часов 15 минут тронулись в путь.
Было уже темно. Я ехал в вагоне III (последнего) класса со всеми удобствами. Отделение для курящих было снабжено, между прочим, местами для зонтиков и плавательными отверстиями. До шестого часа утра я проспал вытянувшись, но за отсутствием покрывала сильно промерз, так как вагон не обогревался. Насколько помнится, дорога шла тем же редким лесом с участками ежовой травы. Лес этот - родина маленького кенгуру, не поддающегося приручению (сообщение одного из попутчиков), а равно и самого крупного из австралийских - гигантских кенгуру.
Поезд стоял на станциях убийственно долго, на что обратили внимание даже мои спутники, здешние жители. Когда рассвело, то, выглянув в окно, я заметил, что местами лес был словно разрежен - его сменили участки без древесной и кустарниковой растительности.
В 6 часов утра я увидел первый паддок и воду дождевого происхождения. Поэтому между деревьями появилась настоящая трава. Паддоки иной раз превращались в настоящий луг. В 7 часов увидел настоящее дождевое озеро. В Сант-Арно пейзаж сильно оживился: поезд пошел по окультуренной территории с достатком воды. Появились водные крики. На паддоках паслись стада овец и коров. В 9 часов пришли на станцию Бэлиба. На одной из станций, кроме овечьего вагона, увидел низкие вагоны с сеткой для перевоза рыбы в воде. Поезд пошел как будто быстрее, но зато остановки стали чаще.
В половине одиннадцатого прибыли на пересадочную станцию - городок Мериборо. За этой станцией поля стали обширнее и на горизонте появились холмы, в область которых мы и въехали. Около станции Кампбэллс-крик встретили порожистый крик с быстро текущей водой. Благодаря холмистости местность довольно живописна. В половине второго прошли небольшой туннель. Встречные дороги уже походили на шоссе. Миновав горы, выехали на равнину с мелким лесом, словно запыленным. В долине крика снова любовались красивыми холмистыми видами. Через час мы уже были в Мельбурне, широко раскинувшемся по равнине.
Взял извозчика (вроде дилижанса) и прибыл в Виктория-кафе-палас. Я снял комнату на третьем этаже. В отеле около 400 комнат, не считая добавочных помещений (гостиные, курилки, два ресторана - семейный и нижний уличный - и др.).
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'