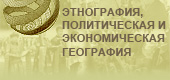
ГЛАВА XII. ФОЛЬКЛОР ОКЕАНИИ


Фольклор Океании
Мне предстояло осуществить на островах серию фольклористических исследований. С самого начала я решил сосредоточиться целиком на песенно-музыкальном фольклоре. Дело в том, что фольклор прозаический - мифы, предания, сказки Океании - известен в нашей стране сравнительно неплохо: имеются сборники текстов, есть научные исследования и популярные работы. Между тем о музыке и песнях народов Океании у нас знают очень мало. Я должен был попытаться восполнить этот пробел: записать на магнитофон как можно больше различных образцов песенно-музыкального фольклора, составить представление о его жанровой структуре, собрать данные о формах бытования и особенностях исполнения, наконец, собрать материалы, характеризующие современные процессы его развития.
Трудности, ожидавшие меня, были очевидны: ограниченное время для работы в местах высадок, языковой барьер и многое другое. Что касается методики, то я решил опереться на опыт полевых исследований в советской фольклористике. Практика показала, что основные принципы и приемы научной методики, выработанные в многолетней экспедиционной работе по Советскому Союзу, оказались достаточно эффективными применительно к специфической этнической и географической среде.
Установление творческих контактов с жителями островных деревень не вызывало трудностей. С одной стороны, этому способствовали природные качества островитян - их дружелюбие, открытость, гостеприимство. С другой стороны, они быстро убеждались в нашем искреннем и бескорыстном интересе к их быту и искусству. С самого первого знакомства мы стремились объяснить островитянам, что интерес наш ничего общего не имеет с обычным туристским любопытством, что народная песня и музыка важны для нас как существенная часть их жизни, что полученные записи найдут в нашей стране широкий общественный отклик. Надо было видеть, как светились удовлетворением и гордостью лица исполнителей, когда я говорил им, что по нашем возвращении в Россию песни их прозвучат по радио и телевидению, в больших залах и аудиториях.
Так получалось, что уже через 30-40 минут после первого знакомства с жителями какой-либо деревни и после беседы с ними где-нибудь на площади или в общественной хижине собиралась группа певцов, ее сменяли другие, сюда приносились для показа традиционные музыкальные инструменты, импровизированный концерт растягивался на несколько часов и завершался нередко пляской. В паузах между музыкой шли беседы, мы рассказывали о нашей экспедиции, отвечали на многочисленные вопросы о нашей стране, дарили сувениры, сами расспрашивали певцов об их быте, и, когда работа кончалась, мы расставались уже друзьями и чуть не вся деревня провожала нашу лодку.
Одним из основных достижений фольклорно-экспедиционной работы в 6-м рейсе «Дмитрия Менделеева» я считаю то, что нам удалось довольно широко выявить и зафиксировать песенно-музыкальный фольклор на бытовом уровне. В подавляющем большинстве наши записи (общее число записанных «номеров» близко к 350) фиксируют песни, которые живут в сегодняшнем повседневном деревенском быту, будучи прочно связаны с различными типовыми ситуациями и событиями деревенской жизни, с повторяющимися трудовыми моментами, с праздниками и т. д. Фольклорное искусство не существует вне быта, почти целиком обусловлено им и вне его не может быть понято. Эта старая истина полностью подтвердилась еще раз нашими наблюдениями в Океании. Уровень народной жизни, ведущие процессы в ней, получившие бытовое преломление, определяют в конечном счете характер фольклора и тенденции его развития. Во многих местах Океании, которые мы посетили, идет развитие современной культуры, которое отмечено, в частности, внедрением в старую культурную традицию новых форм под интенсивным воздействием «западной» культуры.
На некоторых островах заметную роль начинает играть «индустрия туризма», по-своему использующая фольклорные традиции. Песенно-музыкальный фольклор в этих условиях подвергается трансформации, выносится на эстраду, включается в программы фестивалей, звучит по радио и на граммофонных пластинках, служит материалом для композиторов и т. д. Нам удалось увидеть и зафиксировать многочисленные факты использования и преобразования традиционного фольклора в формах современной развивающейся культуры. Эти факты неопровержимо свидетельствуют, что Океания по-своему переживает процессы, которые происходят в фольклоре сегодня повсюду.
Мы видели фестивальные вечера, в которых центральное место занимали выступления фольклорных групп; слушали эстрадные обработки народных песен; наблюдали исполнение фольклорных произведений, специально приспособленное для многочисленных туристов. Нам удалось получить интересные материалы по традиционной музыке в радиоцентрах Науру, Нумеа, Сувы.
Океания - песенный край. Здесь знают, любят песню и Умеют петь все от мала до велика. Конечно, в каждой деревне есть свои мастера, особые знатоки, искусство которых неподражаемо. Но это искусство опирается на всеобщее знание и Умение. Любой мальчишка повторит, по-своему конечно, репертуар взрослых. Это обстоятельство предопределяет преемственность и прочность традиций.
Одна из современных живых проблем - судьба фольклорных традиций, соотношение традиционно-классического искусства с новыми явлениями, вторгающимися в художественную жизнь народов. В Океании эта проблема в различных районах разрешается неодинаково. Можно говорить о нескольких типовых вариантах: в одних местах еще прочно жива фольклорная старина, и фольклорный быт остается почти непроницаемым для инноваций; в других - старое и новое оказываются в гармоническом сочетании, взаимопроникают и взаимно обогащаются; в третьих - новые явления вытесняют с большой интенсивностью старину и подчас полностью меняют структуру художественного быта. Теперь, после этих общих замечаний, я хотел бы более подробно рассказать о встречах с песенно-музыкальным фольклором на островах Океании.
ДЕРЕВНЯ БОНГУ


Жители деревни Бонгу
Миклухо-Маклай оставил нам ценнейшие, хотя и далеко не полные данные по фольклору папуасов. Он составил описание музыкальных инструментов, привел интереснейшие сведения об их употреблении, а некоторые инструменты привез в Россию. Увы, он не имел возможности технически зафиксировать живое звучание папуасской музыки. Миклухо-Маклаю принадлежат также наблюдения над песней, записи нескольких текстов, а также довольно подробные описания празднеств и обрядов. Его дневники и статьи заключают исходный материал для сегодняшних разысканий по фольклору.
...Ранним июльским утром, перебравшись по толстому скользкому бревну через ручей, я поднялся по тропе в гору и сразу оказался в деревне. Подойдя к группе папуасов, я стал говорить о цели своего прихода, вставляя в английскую речь туземные слова «ай» (инструмент), «мун» (песня, пляска), «пуупу» (духовой инструмент), открыл магнитофон и показал, как он работает, сказал, что песни и музыку, которую я запишу, мы отвезем в страну Маклая и много-много людей услышат, как поют и играют люди Бонгу.
Словом, не прошло и получаса с момента моего появления в деревне, как фольклорная работа уже шла полным ходом. Меня устроили на низенькой скамейке в тени под деревом; по мере того как тень передвигалась, я переходил на новое место со всем своим хозяйством, разложенным на циновке.
Сначала свою программу исполнили несколько мужчин. Один из них перед началом спросил остальных: «Все ли готовы начать старую песню, которую поют перед посадкой таро? Начнем...»

Папуасы охотно шли к антропологу О. М. Павловскому. Они стали его друзьями
Меня сразу же поразило одно обстоятельство. Миклухо-Маклай писал, что папуасские песни почти всегда импровизации (в смысле текста). Между тем песня, которую я услышал, явно имела традиционный текст. И в дальнейшем все песни, которые мне удалось слышать, не были импровизациями: слова их не создавались во время пения, но воспроизводились по памяти.
Еще одним открытием для меня был инструмент, которым сопровождали песню: довольно толстая бамбуковая трубка, сантиметров 60 длиной, полая, срезанная сверху. Один из поющих бил глухим концом трубки о землю в такт песне, гулкие удары ее моментами перекрывали голоса. «Бембу» - так назвали мне этот инструмент, который в описаниях Миклухо-Маклая отсутствовал. Как выяснилось, теперь это самый распространенный ударный инструмент в Бонгу - мужчины без него петь просто не могут.
Много часов просидел я в тот день под деревом на площади, слушая и записывая папуасскую музыку. За это время сменилось несколько групп исполнителей - после мужчин мне удалось собрать группу женщин, затем пели дети... В последующие дни я встречался со стариками, с юношами, с девушками. Таким образом, передо мной прошел песенный фольклор всех основных половозрастных групп деревни, открылись многие существенные его особенности. Нельзя было не обратить внимание на его специфический жанровый характер. Песенный фольклор Бонгу отличается высокой степенью функциональности: песен, которые бы пелись «просто так», в деревенском репертуаре почти нет, каждая песня имеет свое определенное бытовое назначение, она «привязана» к какому-либо обряду, какой-либо типовой ситуации, включена в какое-то типовое действие. Прежде всего надо выделить песни трудовые, видимо весьма архаические, поскольку они сопровождают производственные процессы, издавна определяющие характер папуасского хозяйства. Песни о посадке таро, вероятно, имели магически-трудовое назначение: их пели перед началом работ, и они должны были способствовать обеспечению урожая.

Участники юбилейного представления в деревне Бонгу. Среди них Н. А. Бутинов
Женщины спели несколько своеобразных по своей функции песен: обычно, объяснили мне, они поют их в лесу, в то время, когда мужчины расчищают участки под новые огороды. По-видимому, песня в таком случае должна облегчить нелегкий труд. Наконец, пример непосредственной связи с трудовым процессом дает песня, которую рыбаки поют, когда тянут сети. Ее ритмика как бы воспроизводит мерное движение рук, перехватывающих длинную сеть.
Другой раздел папуасских песен связан с обрядами и деревенскими обычаями. Особый интерес вызывают песни, исполняющиеся в составе обряда инициации, который относится к числу важнейших обрядов первобытного общества. Во время этого обряда, длящегося несколько месяцев, происходит посвящение юношей и подростков в «род мужчин». Обряд этот обычно окружается глубокой тайной, и люди, прошедшие его либо его совершающие, неохотно о нем рассказывают.
Тем более можно порадоваться, что мы не только получили ценные сведения о некоторых моментах обряда, но и услышали песни, с ним связанные. Одну из них под большим секретом спел нам старик, который наносит знаки на тела прошедших обряд. Таясь от своих соплеменников, он увел нас в глухую часть деревни и там тихим, надтреснутым голосом спел ее. Другие песни, записанные мною, относятся к тому моменту обряда, когда молодые люди возвращаются преображенными из леса в деревню. Они сами поют в это время, и их встречают пением.
Неожиданно я записал довольно много песен-причитаний, связанных с обрядом похорон. Неожиданно, потому что жанр этот повсюду, в том числе и в русских деревнях, в силу своей специфики очень труден для воспроизведения вне обряда. Между тем запись его представляет всегда исключительный интерес. Когда папуасы сначала отказались исполнить мне аран, я произнес целую речь, в которой многократно высказывал пожелание долгого здоровья и спокойной жизни всем обитателям деревни, выражал надежду, что аран долго еще не будет звучать в Бонгу, и закончил просьбой вспомнить, как пели аран в прошлом. Несколько стариков отвели меня в дальний конец деревни и здесь, на веранде чьей-то хижины, негромко и необыкновенно выразительно спели несколько песен, которыми бонгуанцы обычно прощаются со своими близкими.
Один старик тут же вспомнил рассказ, слышанный им в детстве, о том, что папуасы при проводах Маклая исполнили аран - такова была сила их скорби.
На следующий день уже группа юношей, не таясь, прямо на площади, пропела мне несколько аранов.
В разные дни я записал также еще обрядовые песни, приуроченные к некоторым деревенским обычаям. Например, есть специальная песня, с которой жители деревни несут подарки своим родственникам в другую деревню. Есть песня, заключающая почитание родителей. Мужчины вспомнили песню, которая пелась перед выступлением в военный поход.
Что касается песенной лирики, не обусловленной функционально, то она в деревне Бонгу существует в своих начальных формах. Мне удалось записать две очаровательные песни, которые можно назвать девичьими лирическими. Одну из них девушки обычно поют, когда выходят на берег, другую чаще исполняют перед танцами. К лирике можно отнести песни детские, которых я записал довольно много. Однажды, купаясь недалеко от берега, я заметил группу ребятишек, игравших на песке. Быстро познакомившись с ними, я повел их к нашей хижине, вынес магнитофон, и они стали петь, поначалу неслаженно, а потом все более стройно и громко.
В поэтическом плане папуасские песни очень любопытны. Слов в них предельно мало: песня обычно состоит из короткой повторяющейся, иногда слегка варьируемой фразы, нередко из двух-трех слов и даже одного слова. Например, в девичьей песне все время повторялось слово «ветер». В рыбацкой песне повторялась фраза «чайка летает». В некоторых песнях бывает, так сказать, опорное слово, которое повторяется как припев и, по-видимому, несет основную смысловую нагрузку. Например, в одном аране настойчиво повторялось слово «сандаму» - «петух». Характерно, что в большинстве песен нет прямой связи между текстом и обрядовым содержанием. В рыбацкой песне не говорится ни о рыбе, ни о сетях, ни о лодке. Существует скрытая, ассоциативная связь, песенное слово несет специфическую смысловую и эмоциональную нагрузку. Вот так, например, пересказали мне девичью песню о ветре: когда девушки выходят на берег и смотрят на море, они ощущают, как дует легкий ветер, который колышет листву деревьев и стелется по траве. Между тем в самой песне есть только одно слово - «ветер».
Не берусь давать музыковедческую характеристику песням деревни Бонгу, но на два обстоятельства хочу обратить внимание. Все песни в музыкальном отношении обладают известным, на мой взгляд значительным, единством. Того стилевого разнообразия, с которым мы сталкиваемся в песенном фольклоре многих народов (песни «долгие» и «частые» и т. д.), в Бонгу нет. Больше того, можно заметить в песнях разных жанров общность интонаций.
На меня папуасские песни произвели очень сильное эмоциональное впечатление. В спокойных, неторопливых по ритму, отнюдь не однотонных, часто очень мелодичных песнях ощущается неизменно какая-то горечь, эмоциональная напряженность. Теперь, когда я дома слушаю магнитофонные записи, я вижу прежде всего глаза моих многочисленных исполнителей - мужчин, женщин, молодых людей: в них всегда кроется та же горечь, которая слышится в песнях...
С первой же нашей встречи я стал расспрашивать папуасов о музыкальных инструментах. Хотелось поскорее увидеть и, главное, услышать то, что видел и слышал когда-то Миклухо-Маклай, выяснить, какие изменения в их составе произошли за сто лет.
И вот вынесли на площадь длинную бамбуковую трубу, более двух метров. Один конец темно-коричневой, отполированной до блеска трубы кладут на плечо мальчику, другой конец поднимает сам исполнитель. Его зовут Оп. Он берет бамбук в рот и начинает с силой дуть в него. Раздается густой ревущий звук, отчетливо слышится нехитрая мелодия.
«Ай-кабрай»,- говорю я, показывая на трубу. «Нет,- возражают мне.- Это не ай-кабрай, а ай-дамангу. Ай-кабрай сейчас принесут». Действительно, приносят новый инструмент: короткая, открытая с обоих концов бамбуковая трубка. Папуас берет в рот один конец и начинает кричать, а труба странным образом усиливает и изменяет его голос.
Итак, вместо одного инструмента, значащегося у Миклухо-Маклая под названием «ай-кабрай» (кабрай на местном языке - это попугай с громким, крикливым голосом), папуасы знают теперь два, но оба, по-видимому, в деревне редки.
У меня появляется добровольный помощник, его зовут Макинг. Средних лет, с красивым мужественным лицом, хорошо сложенный, быстрый, легкий, он много смеется, шутит. Макинг известен в деревне как большой весельчак, организатор праздников, представлений, танцев. Это он, кажется, поставил пантомиму «Первая встреча Маклая» и сам играл в ней одну из ролей.
Макинг быстро понял, чего я хочу: когда я называю какой-либо инструмент, он сразу же начинает оживленно переговариваться с окружающими, пытаясь выяснить или припомнить, у кого можно его найти, посылает куда-то ребятишек. Действует он без всякой корысти, просто ему интересно и приятно помогать «русу» знакомиться с музыкой Бонгу. Между тем работа идет не совсем гладко - некоторых инструментов не могут найти, о других в деревне просто не помнят. Все же с помощью неутомимого Макинга удается увидеть и услышать все те инструменты, которые еще сохраняются в деревне.
Вот илоль-ай - труба из бутылочной тыквы, тоже знакомая мне по нашей музейной экспозиции. Пожилой, начинающий седеть папуас, по имени Парива, долго примеривается, откашливается и затем начинает громко, с подвываниями, кричать в трубу, которая усиливает его голос, далеко разнося звуки.
Приносят монги-ай. Маленькое черное ядро кокосового ореха, высушенное солнцем до звона и отполированное сотнями рук, удивительно напоминает толстую круглую рыбу с коротким хвостом и тупой головой. В нем две дырочки - одна была сделана, чтобы выпить кокосовый сок, другая, сбоку, просверлена специально с музыкальными целями. Макинг сильно дует в нее, извлекая те самые пронзительные и свистящие звуки, которые когда-то слышал Миклухо-Маклай. На монги-ай особенно не разыграешься - в лучшем случае на нем можно получить лишь отдельные долгие ноты.
Затем Макинг приносит еще два инструмента. Кусок бамбукового ствола, по длине и толщине напоминающий бембу, с узкой щелью почти по всей длине и с ручкой, которая представляет собой просто стесанную часть другой секции ствола. Это - конгон, по нему бьют сухой бамбуковой палочкой, получается сухой, резкий, довольно высокий звук, напоминающий крик дикой птицы.
Второй инструмент особенно любопытен. Еще накануне нам показывали небольшие - сантиметров в 10-15 длиной - узкие деревянные ножички, поверхность которых покрыта резьбой и раскрашена,- лоб-лоб. «Ножички», по-видимому, имеют магическую функцию, это - обереги, которые мужчины втыкают в волосы, засовывают за ручные украшения во время церемониальных плясок и обрядов.
Теперь Макинг с некоторой торжественностью держал большой бамбуковый шест, к которому за длинный шнур был привязан один такой «ножичек». Затем он стал с силой вертеть шестом над головой, шнур натянулся, и деревянная пластинка, разрезая воздух, загудела каким-то зловещим гулом. Такое зрелище в деревне случается, видимо, не часто, потому что площадь - в тот момент, когда Макинг показывал инструмент,- заполнилась взрослыми и детьми, которые громко выражали свой восторг.
Когда я теперь слушаю на магнитофонной ленте глухие завывания лоб-лоб-ай на фоне многоголосой толпы, перед глазами встают вытоптанная до блеска, без единой травинки, просторная деревенская площадь, окруженная легкими, поставленными на сваи хижинами под крышами из пальмовых листьев, жители всех возрастов, сбежавшиеся на музыку, и скульптурная фигура Макинга, напрягшего, кажется, все свои силы, чтобы получить звук помощнее. Самое любопытное при этом, что лоб-лоб-ай употребляется в обряде инициации и до недавнего времени его невозможно было увидеть или услышать в повседневном быту. По-видимому, Миклухо-Маклаю этого инструмента не показывали.
Вечером в доме, где мы поселились, нас ждала еще одна музыкальная находка. Папуас Амбаси, добровольно вызвавшийся помогать нашему отряду и то носивший за нами какие-нибудь вещи, то хлопотавший у костра, то просто сидевший у дверей в ожидании какого-то дела, принес откуда-то великолепную, больших размеров витую раковину. В узком конце ее была сделана дыра. Амбаси, поглядывая на нас живыми быстрыми глазами, уселся поудобнее на циновке, осмотрелся, словно бы желая убедиться, что внимание всех присутствующих обращено на него, и приставил раковину ко рту. Мощный красивый рев разнесся далеко-далеко, словно заставляя нас вернуться к тем далеким временам, когда звуками такой же торы - тритоновой раковины люди с острова Били-Били извещали жителей Бонгу о своем приближении.
Несколько дней я упорно искал бамбуковую флейту, инструмент, о котором Миклухо-Маклай не раз писал как о любимой забаве папуасской молодежи. Тот, кто бывал в нашем музее, помнит, конечно, фигуру молодого папуаса: он сидит в поэтической задумчивости, приложив к губам флейту, и, кажется, она вот-вот зазвучит...
Когда я попросил показать тюмбин (так названа флейта у Миклухо-Маклая), все хором поправили меня - не тюмбин, а шюмбин. Все знали, о чем идет речь, но флейта не находилась. Постепенно у меня с папуасами завязалась своеобразная игра: как только в наших занятиях и разговорах наступала пауза, я громко и отчетливо произносил - «шюмбин», слово тотчас подхватывалось, повторялось, кто-то принимался за поиски либо делал вид, что ищет, а затем все постепенно успокаивалось. В конце концов флейту нашли, затем появилась еще одна, и юноша Моулон сумел извлечь свойственные этому инструменту нежные звуки.
Большинство музыкальных инструментов, которые прошли передо мною в Бонгу, совершенно примитивны. Создателям их понадобилось совсем немногое, чтобы заставить звучать куски бамбука, раковины, пластинки дерева, пустой орех, сухую тыкву.
Мы знали, что во времена Миклухо-Маклая большинство папуасских инструментов употреблялось лишь во время празднеств и обрядов, в которых участвовали одни мужчины. Женщинам и детям было строго запрещено не только присутствовать на таких сборищах, но и слушать музыку и видеть инструменты. Теперь не то. Женщины и дети не убегали при звуках «ай», но, напротив, сбегались, услышав их, на площадь. Музыка в деревне больше не является предметом табу. Но все же сохранилась традиция - женщины игры на инструментах не знают и поют без инструментального сопровождения. По-видимому, в значительной степени утрачена былая вера в магическую силу музыки, в возможности ее таинственного воздействия. Эту свою прежнюю функцию музыка в какой-то мере выполняет в составе обряда, за пределами которого она - музыка, и только.
Похоже, что старые инструменты в деревенском быту уже не столь распространены. Впрочем, это можно сказать не обо всех.
Непременную и заметную принадлежность деревенской обстановки составляют барумы. Громадные, двух- и трехметровые, а иногда и длиннее, до 80 см в поперечнике, выдолбленные колоды лежат у самых хижин, а иногда укрыты в специальных постройках с навесами. Глухая задняя часть барумов срезана на прямую, перед же напоминает голову огромной рыбы или нос лодки, покрытый иногда резьбой. Сверху, почти по всей длине главной части ствола, идет узкая щель.
Барум - сигнальный барабан. По нему бьют битой-тобой, которая тоже может быть украшена резьбой. Существует особый язык сигналов барума, который в деревне знают все. Опытные мастера умеют придавать особую эмоциональную выразительность ударам, регулируя оттенки звучания. Под ударами тобы барум звучит то мощным призывным звоном, то глухо и почти нежно, редкие - с паузами - удары чередуются с мягкой дробью. Язык каждого сигнала отличается предельной сжатостью и удивительной выразительностью. Сигнал, сообщающий о чрезвычайном происшествии, полон напряженной тревоги и призывает к готовности. Сигнал, извещающий о смерти, звучит скорбно и глухо. Например, ощущением радости наполняет сигнал, предупреждающий о том, что надо готовиться к празднику. Словно удары плотницкого топора, звучат сигналы, сообщающие о начале постройки дома. И наконец, нетерпение, даже раздражение слышится в сигнале, передающем требование проголодавшихся мужчин к женщинам - незамедлительно возвращаться с огородов.

Сигнальные барабаны, украшенные 'портретами' умерших предков
Окам - единственный инструмент, о котором можно сказать, что он придуман от начала до конца, что в нем немногое осталось от природы, но зато много человеческой фантазии и настоящего мастерства. Формы окама совершенны, в нем есть какая-то завораживающая гармония линий, внешние его стенки украшены резьбой. Для окамов искусно выжигают насквозь внутреннюю часть небольшого по длине, средней толщины ствола. Наружные стенки его обрабатывают так, что оба конца ствола кажутся сужающимися к середине. Здесь ствол перехвачен ручкой, которая также украшается резьбой. Одно отверстие обтянуто шкурой ящерицы. Звук от удара по натяжке проходит по всей длине ствола и выходит через открытую часть.
С этим замечательным инструментом, сохранившимся со времен Миклухо-Маклая, мы познакомились особенно хорошо во время праздника, устроенного деревней в честь экспедиции. На этом празднике мы увидели традиционные церемониальные пляски бонгуанцев.
Когда после призывных, веселых ударов барума деревенская площадь заполнялась людьми, из-за ближайших хижин послышались согласные удары большого числа ручных барабанов-окамов, и в соответствии с их ритмом началось движение танцующих. Мужчины - их было двенадцать - шли немного пригнувшись, легкими пружинистыми шагами, слегка припрыгивая. Они были в темно-желтых набедренных повязках, головы их были убраны разноцветными перьями и пучками травы, украшения висели за плечами, на руках были браслеты, на груди и в зубах - украшения из кабаньих клыков, овальных раковин и других предметов. Шествие замыкала женщина, одетая в одну лишь юбку из желтых и коричневых волокон - наль, с пышными украшениями в волосах.
Танцоры вошли в круг и здесь стали делать различные фигуры. При начале каждого очередного танца они замирали, принимая соответствующие позы, ведущий запевал, мелодия всплескивала, неожиданно и тревожно поднимаясь высоко-высоко, и так же неожиданно падала, тут же вступали остальные голоса, принимались глухо звучать окамы. Танцующие начинали двигаться. То пригибаясь к земле, то выпрямляясь, они выстраивались в линию, в два ряда, в круг, разыгрывая короткие пантомимы. Женщина все время оставалась на одном месте, в такт музыке раскачивая бедрами, юбка ее развевалась.
Каждый танец имел свое содержание. Первый был связан с возвращением из леса юношей, прошедших обряд инициации. «О дорога, расступись, дай место, я иду!» - пели мужчины. Танец так и назывался - «Дорога». Были танцы собак, плавающих между рифами рыб, птиц, клюющих плоды на дереве и опасающихся охотника, бабочек, перелетающих с цветка на цветок. В движениях танцующих, в их пластических позах угадывались и прыжки животных, и порхание бабочек, и настороженное поведение птиц, и мерное накатывание волн на берег. И во всей этой игре танца, в этой беспрерывной смене ритмов, поз, выражений барабаны-окамы не просто звучали, но жили, составляя органический элемент пантомимы. Танцующие то поднимали их над головами, то опускали чуть не до самой земли, то выбрасывали движениями рук далеко вперед, то поворачивали разными концами. Окамы то звенели над площадью, то глухо шелестели у земли, вплетались в песню и снова умолкали.
Мы видели перед собой высокое искусство, в котором сливались воедино песня, пляска, музыка и в котором выразительность пантомимы достигалась благодаря опыту и мастерству, бережно передаваемому из поколения в поколение.
На фоне довольно пестрой картины разнообразных и подчас весьма значительных изменений, происходящих в современном фольклорном быту Океании, деревня Бонгу поражает цельностью и устойчивостью своей фольклорной, песенно-музыкальной и хореографической традиции. Нам встречались острова, где уже невозможно было найти ни одного живого народного инструмента - лишь музейные экспонаты давали представление о недавнем музыкальном прошлом. Были острова, где находились один-два инструмента, как, например, лали - небольшой барабан из выдолбленного куска дерева - на Фиджи. В Бонгу же за сто лет не только не произошло ощутимых утрат, но состав традиционных музыкальных инструментов даже как будто расширился, а с другой стороны, в деревенский быт не вошло ни одного нового, внетрадиционного инструмента. И это несмотря на то, что совсем рядом, на той же Новой Гвинее, уже пользуются известностью маленькие четырехструнные гитары укулеле, несмотря на наличие в Бонгу нескольких транзисторов, через которые каждодневно звучит современная музыка.
ОСТРОВ ЭФАТЕ

На острове Эфате, центральном в архипелаге Новые Гебриды, я не рассчитывал найти фольклорную архаику. Здесь находится главный город Новых Гебрид - Порт-Вила, остров посещают массы туристов, население его активно вовлечено в современную хозяйственную жизнь и в «туристскую индустрию», связано с городом, в деревнях всюду есть школы с обучением на английском или французском языках. Быт меланезийцев в значительной степени обновлен. Правда, нам говорили, что на дальних островах - на Маликуле, на Амбриме и других - традиционный быт и неизменно сопутствующие им архаическое искусство и фольклор еще по-настоящему живы. Моим товарищам по экспедиции М. В. Крюкову и М. А. Ростарчуку удалось побывать в глухих деревнях на острове Эроманга и сделать там фольклорные записи. Среди них особый интерес вызывает несколько эпических песен на темы старых межплеменных войн, но основная масса записанных песен относится к сравнительно позднему фольклорному слою.
Естественно, что на Эфате меня интересовали не столько следы архаики, сколько современный бытовой фольклор, сложившийся и продолжающий развиваться в условиях тех больших сдвигов, которые происходят в экономической, социальной и духовной жизни Меланезии.
Несколько поездок по острову позволили собрать материал, в какой-то степени помогающий ответить на занимавшие меня вопросы.
Деревни, расположенные по побережью и удаленные от города на несколько часов автомобильной езды, выглядят очень схоже, отличаясь лишь размерами да достатком. Традиционных хижин с плетеными стенами, с крышами из ветвей кокосовых пальм, с земляным полом, устланным циновками из листьев пандануса, в этих деревнях осталось немного. Небольшие лачуги, сбитые из разного цвета фанерных листов, из гофрированных листов и досок, производят убогое впечатление. К тому же внутри их жарко и застаивается воздух. Здесь же рядом - добротные, вполне современные дома вождей, с верандами, в несколько комнат, застекленные, с городской мебелью, с полками, сверкающими начищенной посудой.
На улицах, между домами, на площади перед церковью и школой - обязательные клумбы цветов, декоративный кустарник, пальмы, цветущие деревья. Всюду - подчеркнутая чистота. Клумбы, деревья обложены красивыми раковинами, которые каждый день выбрасывает на берег море.
Нам повезло - на острове был сезон свадеб, и мы приехали в небольшую деревню Севири к началу очередного свадебного обряда. Деревенский вождь после небольшого разговора с нами стал бить в рельсу, висевшую рядом с церковным колоколом. Начал собираться народ. Из одной хижины показалась процессия: симпатичная невеста шла босиком, одетая в длинное белое подвенечное платье с фатой, в руках она держала алую розу. Рядом с ней тоже босиком в роскошном атласном платье шла ее подруга; немного позади шла мужская пара - оба совершенно одинаково одетые, в добротных городских костюмах, в белоснежных сорочках с галстуками и, конечно, в туфлях. Процессия, сопровождаемая родственниками, медленно и важно вошла в церковь, где ее ожидал пастор - тоже меланезиец. Все расселись по скамьям, женщины - слева, мужчины - справа от входа. По ходу службы прихожане стройно и красиво пропели несколько псалмов, держа перед собою книжечки. Чтобы записать пение без перегрузки, я должен был выйти на улицу, где немилосердно лил дождь, и держать магнитофон под плащом.
Потом пастор прочел по-меланезийски небольшую проповедь, поздравил молодых и дал расписаться им и свидетелям в книге. Затем он вышел из церкви, молодые стали рядом, а остальные прошли, принимая благословение пастора и поздравляя молодых. Подошли и мы, дали им на память сувениры. Тут же процессию поджидала группа юношей. У двоих в руках были укулеле - маленькие, чуть больше мандолины, четырехструнные гитары. Укулеле - самый распространенный ныне по всей Океании инструмент. Ребята стали впереди процессии и бойко ударили по струнам, отбивая аккорды, а третий юноша стал ударять в металлические ложки. Раздалась веселая песня, которую подхватили сопровождающие, с выкриками, с явно танцевальным ритмом, и вся толпа торжественно проследовала к хижине, украшенной пальмовыми листьями: здесь были приготовлены столы, очень скромные, традиционные островные кушанья стояли на них - сваренные с рыбой таро и ямс, плоды хлебного дерева, печеные бананы. Мы добавили хозяевам свой дорожный запас консервов и отошли, не желая нарушать традиционный ход праздника.
Мне удалось, пряча магнитофон от дождя, записать несколько свадебных песен - все одного типа, мы бы сказали величальные свадебные, неподдельно веселые, задорные, с красивыми мелодиями отнюдь не архаического характера.
Праздник длился недолго - скоро молодые уехали на пикапе в другую деревню, а остальные участники разошлись, неся угощение в плетеных корзинках.
Пора было и нам ехать назад, тем более, что товарищи мои уже успели о многом расспросить, отметить интересовавшие их бытовые подробности, описать внутреннее убранство нескольких хижин. Мне, однако, не хотелось уезжать с таким запасом записей. Я подошел к группе женщин, стал спрашивать, принято ли у них петь колыбельные. Женщины понимающе заулыбались, но на мою просьбу спеть смущенно засмеялись и отошли в сторону.
Дождь, было затихший, припустил с новой силой, и я побежал под крышу. Рядом со мной оказалась молодая миловидная женщина с ребенком на руках. Я заговорил с ней, мы обменялись какими-то шутками, я похвалил мальчишку, который и впрямь был очень симпатичным. Женщина направилась к своей хижине, я за ней, она вошла внутрь, я остановился на пороге: в меланезийский дом не принято входить в обуви, а разуваться мне было некогда и под дождем неудобно. Она спела колыбельную, удивительно нежную и ласковую. Мальчишка, поняв, что его намереваются усыпить, стал громко выражать протест, сверкая на меня своими глазенками. Тогда я протянул ему микрофон, он ухватился за него и замолчал, а к концу песни уже сладко посапывал, не выпуская микрофона из руки. Во время пения женщина с какой-то опаской поглядывала в сторону: оказывается, там за занавеской спал на циновке ее муж.
Я побежал к машине, извлек из рюкзака игрушку, вернулся к женщине, и мы расстались, оба, кажется, довольные нашей короткой встречей. А в моей коллекции колыбельных песен эта, записанная под шум дождя в деревне Севири,- одна из лучших и особенно памятна для меня по забавным обстоятельствам, при которых она была спета.
Оставшиеся дни я провел в деревне Меле. Двадцать минут на такси по отличному грейдеру - и мы на месте. Деревня выглядит по-особому ухоженной, обе церкви и школа выделяются своим аккуратным видом, дома преобладают добротные, есть даже водопровод на улице. Чья-то опытная рука расставила в самых подходящих местах традиционные деревянные скульптуры из черного папоротника. Сами жители относятся к ним с легкой иронией: «Это для туристов». Деревня значится в проспектах как один из пунктов для посещения туристских групп. Когда узнаешь об этом, начинаешь думать, что многое в ней напоказ - даже эффектно развешенные связки таро. На самом деле это, конечно, не так. Деревня как деревня, и жители ее живут не доходом от туризма, а обычным крестьянским трудом. Необычно другое: многие мужчины работают в городе, каждый день совершая поездки на автобусах, поэтому во многих семьях водятся деньги, у некоторых есть машины и мотороллеры.
Первое наше посещение Меле не было удачным. Мы приехали в воскресный день, рассчитывая, что все будут дома, все будут свободны и работа пойдет успешно. Однако вождь деревни встретил нас сухо и сразу же предупредил, что ни о какой работе не может быть и речи: в воскресенье люди должны побывать в церкви, а потом весь день отдыхать, ничего не делая. Потом, на других островах мы с этим пуританским требованием, исполнения которого деревенские власти требовали неукоснительно, сталкивались не раз. В одной фиджийской деревне женщины собрались и пели нам охотно, но как-то несмело, скованно, вполголоса. «Почему вы так поете? - спросил их я.- Ведь эту песню надо петь, по-моему, громко, весело, прихлопывая в ладоши, с выкриками».- «Да, да,- улыбаясь, согласились они,- но сегодня воскресенье, и петь нам вообще нельзя».
После встречи с вождем Меле мы пошли к морю, поневоле решив и себе устроить отдых. Дорога шла мимо большого болота, из которого слышался рев тропических лягушек.
Залив Меле удивительно хорош. Чистая песчаная отмель, широкая в эти часы отлива, громадной - на несколько миль - дугой тянулась в обе стороны, обрываясь вдали у рифов, обозначенных белой полосой прибоя. Сразу же от берега начинался тропический лес. Узкий проход между рифами позволял заходить сюда лишь легким судам. Одновременно с нами к берегу подошел изящный французский триморан. Впрочем, бухту посещают и другие «гости». Мы купались метрах в двадцати от берега, а вскоре после того, как вылезли из воды и оделись, мальчишки, появившиеся из леса, стали показывать на то место, близ которого мы недавно плавали: «Shark, shark!» (Акула, акула!).
День был пасмурный, в любой момент мог начаться дождь, и мы грустные сидели в лодке, вытащенной далеко на берег, все еще не в силах примириться с вынужденным простоем. Постепенно, однако, пустынный дотоле берег стал оживать. Появились мальчишки, любопытной толпой они окружили нас, потом подошли девочки, несколько девушек и юношей. Дети ловко и быстро плели цветы из стеблей какой-то травы, стали дарить их нам, мы отвечали разными сувенирами.
Постепенно стал завязываться разговор, но контакт полностью установился, когда Н. А. Бутинов, побывавший в этой деревне накануне и сделавший массу снимков, вытащил пачку фотографий и предложил присутствующим отобрать те из них, на которых они найдут себя или своих близких.
Помню, как на Берегу Маклая, в деревне Бонгу мы предложили то же самое и встретились с неожиданным препятствием: папуасы легко узнавали на фотографиях друг друга, но не могли узнать себя - они не знали по-настоящему своих лиц. Здесь было другое. Поднялся шум, смех, ребятишки тянули карточки из рук, и пачка была быстро расхватана. Девочка лет шести плакала навзрыд. Ее старшая сестра объяснила: она увидела себя на фотографии, но кто-то перехватил карточку. К счастью, в запасе у Николая Александровича нашлась еще одна, и девочка, пряча фото от капель дождя, побежала домой.
А мы приступили к работе. Н. М. Гиренко увел в сторону одного юношу и стал терпеливо выспрашивать у него местные термины родства, И. М. Меликсетова интересовалась школьными делами, О. М. Павловский присматривался к антропологическим особенностям ребят. Я вытащил магнифотон, и мальчишки с большой охотой и готовностью спели мне несколько песен. Я специально попросил их исполнить песни, которые они обычно поют не в школе, а дома, на улице, во время игр. Пели они слаженно, легко, с явным удовольствием. И какие очаровательные и забавные это были песни: о летучих мышах, которые плачут, потому что они не хотят, чтобы шел дождь; о том, как ведьма проглотила в лесу девочку и как родителям удалось ее спасти; о мальчике, которого побили палкой за то, что он залез на чужое дерево. Кстати, в последней песне не выражалось ни сочувствия мальчику, ни осуждения его - песня имела вполне шуточный характер и заканчивалась под заливистый смех ребят. Сейчас, слушая магнитофонную ленту с этими песнями, я всякий раз, когда звучит чистый и звонкий смех юных певцов, вспоминаю этот пасмурный день, тихую бухту Меле и сияющие весельем черные ребячьи лица, которым пока что нет дела до воскресных запретов и которые изливают в бесхитростных песнях радость своего бытия.
Потом мы попросили отдельно спеть девочек, и они совсем было уже приготовились, когда парень, сидевший неподалеку и с явным неодобрением следивший за нашей деятельностью, сердито сказал им что-то. Девочки сникли: «Нельзя, сегодня воскресенье».
Утром следующего дня мы снова были в деревне. Оказалось, что вождь уехал на своей машине в город, и мы пошли искать его заместителя.
Крепкий, прокаленный солнцем старик рубил дрова, когда мы подошли к нему. Он уже слышал о русском корабле, бросившем якорь в Порт-Вила, но понятия не имел о нашем этнографическом отряде. Н. М. Гиренко пришлось обстоятельно, повторяя по нескольку раз одни и те же выражения, объяснить, что мы хотели бы прежде всего послушать и записать местные песни. Старик внимательно слушал, курил и молчал. Трудно было судить, насколько он нас понял. Он сказал несколько слов подошедшему мужчине интеллигентного вида, и тот с подчеркнутой любезностью предложил идти за ним. По дороге выяснилось, что наш новый знакомый Эдвин - здешний учитель, сам любит петь и старается приохотить к пению своих учеников.
Мы уселись под навесом во дворе его дома.
«Вы хотите старинные песни? - спросил Эдвин.- Но их уже никто в Меле не поет. Молодежь и вовсе ими не интересуется. Может, я один остался на всю деревню, кто помнит их». Мы уже совсем было приготовились слушать, но учитель огорчил нас: ему нужно было идти в школу. Впрочем, и сам он был явно расстроен - видно, не часто приходилось ему знакомиться с белыми, которые интересовались песнями его предков. Эдвин сказал что-то жене и ушел. Мы начали собираться домой, решив, что и этот день безнадежно пропал. В этот момент из дома вышли женщины разного возраста, между ними - одна молодая, в болонье и городской косынке, улыбающаяся ослепительно белыми зубами. Подошли двое парней, один с укулеле, другой с ложками. Все они оказались родственниками учителя - жена, мать, сестра, племянница, племянник - и его соседями. Женщина в болонье - Тоас и сама была учительница. И тут я понял, что нам невероятно повезло: ведь мы попали в дом, где есть семейный ансамбль, который наверняка является хранителем фольклорных традиций деревни. Мы просидели под навесом полдня. Песни звучали под шелест дождя, под незамолкавшее щебетанье птиц и далекие крики ребятишек, бегавших возле школы, под удары топора в соседнем дворе. Работая с народными певцами, я, откровенно говоря, не люблю абсолютной тишины, в которой записи получаются как бы дистиллированными, холодноватыми. Народной песне больше соответствует обстановка обыкновенной жизни с ее шумами, с уличными звуками, которые, не мешая ей, создают своеобразный бытовой звучащий фон.
Наша встреча с певцами Меле разворачивалась как великолепный импровизированный спектакль, поставленный по сценарию, тут же совместно придуманному. В спектакле этом все присутствовавшие были одновременно участниками и зрителями. Началось с того, что я предложил ввести некоторую последовательность в исполнении песен, соответствующую мерному круговороту деревенской жизни.
«Есть ли у вас песни, связанные с рождением детей?» - спрашиваю я и тут же получаю отрицательный ответ.
«Поете ли вы маленьким детям, чтобы успокоить или убаюкать их?» - «Да, да»,- заулыбались все, услышав английское слово «lullaby». Впрочем, выяснилось, что с колыбельными дело совсем не так просто. Обычно их поют бабушки и дедушки, среди родителей это не принято, они лишь постепенно учатся этим песням с тем, чтобы запеть их в свое время. Искусство колыбельной не простое еще и потому, что слова здесь на архаическом, мало понятном теперь языке.
После этих объяснений женщины (бабушками они были явно не все) складно и весело спели две колыбельных. В одной из них о ребенке вовсе не упоминалось, а говорилось о небе, о месяце, о ветре, который дует, не уставая, и колышет все, что встречается ему на пути.
Когда я спросил о детских песнях, все оживились, заулыбались, будто вспомнили свои детские годы. На какой-то момент они словно преобразились. Взяв друг друга за запястья, они стали покачивать руками вверх-вниз и в такт покачивания запели песню, потом разняли руки и стали под пение делать другие игровые движения - проводили ладонями по голове, по лицу, пальцами оттягивали глаза и закончили тем, что растянули рты. Песня эта, конечно, того же типа, что и наши русские потешки, предназначенные для самых маленьких. Надо было видеть, как веселились ребятишки, глядя на своих мам и бабушек, вернувшихся в детство.
Заливистый их смех и сейчас звучит у меня с магнитофонной ленты.
Потом пошли песни свадебные - под раскатистые аккорды укулеле, под удары ложек, задорные выкрики, с притопыванием. Любопытно, что слова в этих песнях прямо с обрядом не связаны, содержание их как будто далеко от свадебных мотивов и, видно, соотносится с ними ассоциативно. В одной из песен, например, пелось о маленьком муравье, снующем всюду и собирающем добро к себе в кучу. Припев со словом «ороа» (муравей) звучал так звонко, так мажорно, с таким явным жестом в сторону предполагаемого жениха, что было понятно - загадки для присутствующих смысл песни не составлял.
Спели наши хозяева и песни похоронные, которыми провожают близкого человека в последний путь. Однако «спектакль» наш не располагал к тому, чтобы задерживаться на печальных моментах жизни, и певцы стали - по моей просьбе - вспоминать песни, связанные с деревенскими работами, с окружающей их природой. Прежде всего они спели песню о дереве, дающем им хлеб, о том, как они приготовляют из плодов традиционное кушанье - куруте. Затем последовала песня о кокосовой пальме - кормилице островитян, дающей им все. В песне часто повторялось слово «маори», что означает «жизнь». Прозвучала песня о ямсе, рассказавшая о всех этапах работы с ним - от момента посадки и до уборки. И наконец, этот цикл закончился развеселой песней о лодке тевака, о том, как люди плавают по заливу, ловят рыбу и любуются видом океана. Во всех этих бесхитростных песнях явственно ощущалась вековая психология крестьян, для которых радость бытия, радость общения с природой неразрывно связана с повседневным трудом, с добыванием хлеба насущного. Слушая меланезийские песни, я вспоминал хорошо знакомые мне крестьянские песни - русские, украинские, болгарские, сербские, в которых живут в сущности те же настроения и чувства. Да и в музыкальном отношении между ними не лежала пропасть, и песня о лодке очень хорошо прозвучала бы где-нибудь на русской реке, а песню, которой меланезийцы встречают невесту, поняли бы и приняли на нашей свадьбе.
Много было еще песен в этот день - в том числе «историческая», из которой мы узнали, что жители этой деревни лишь двадцать лет назад поселились здесь, а до того жили на маленьком острове Меле. Мы услышали очаровательную песню гостеприимства - «Салю, салю». Салю - венки из цветов и листьев, которые на острове надевают через голову желанным гостям. С этим добрым обычаем мы в Океании сталкивались неоднократно.
Финал «спектакля» оказался необыкновенно теплым и трогательным. Уже - в паузах между песнями - о многом было переговорено; уже хозяева с интересом и вниманием рассмотрели открытки и буклеты с видами наших городов; мы успели ответить им на десятки вопросов о нашей стране и сами расспросить о многом; были розданы сувениры, и я готовился закрыть магнитофон. В это время сбежались ребята, двор наполнился шумом. Учительница что-то сказала им, ребята присмирели и запели стройно и живо. Часть песни звучала на языке деревни Меле, часть по-английски. Нам удалось разобрать слова:
Прощайте, прощайте, Пусть добрым будет ваш путь!
Мы уходили под эти слова, и ребята и наши новые знакомые провожали нас песней и махали вслед руками. Мы уже были далеко, у дороги, и, оглянувшись в последний раз, увидели машущие руки и услышали заключительные слова песни: «Пусть добрым будет ваш путь!»
Песенно-музыкальный фольклор острова Эфате интересен тем, что это вполне современное искусство, несомненно сложившееся на основе богатой предшествующей традиции, но также и под влиянием новых впечатлений, которые пришли от знакомства с «западной» музыкой и от усилившихся связей с другими частями Океании. В музыке и песнях, услышанных нами на Эфате и на Эроманго, отчетливо ощутимы черты того нового стиля, который хочется назвать общеокеанийским: с его проявлениями можно сегодня встретиться и на островах Новой Каледонии, и на Фиджи, и в других местах.
ДЕРЕВНЯ БУОТА

Третий пример, который я хотел бы привести, это фольклорная работа на атолле Маракеи из группы островов Гилберта.

В лагуне атолла Маракеи
Деревня Буота прижата к линии берега, и при сильном прибое брызги долетают до ближайших хижин. Полоса земли, свободная от застоявшейся сырости и относительно высокая, здесь совсем невелика, и деревня состоит всего из трех рядов хижин, а улица, по которой можно ездить на мотороллерах и велосипедах, вообще одна. Хижины для жилья здесь в большинстве маленькие и почти все построены по одному типу: невысоко над землей поднимаются три-четыре связки пальмовых бревен, скрепленные при помощи жгутов из какого-то местного волокна; на них постланы доски, по углам и в середине тонкие столбы поддерживают крышу из пальмовых листьев, круто нависающую над перекрытиями. Стен в большинстве хижин нет вовсе, изредка часть дома отделена от улицы невысокой загородкой. Есть хижины без поднятого пола, их границы обозначены грядой камней. Точно так же построены все хозяйственные службы. Жизнь семьи совершенно открыта, люди сидят на циновках под крышей либо рядом с хижиной и спокойно занимаются своими делами, не докучая соседям своими наблюдениями и сами не испытывая неудобства оттого, что их можно видеть отовсюду. Впрочем, впечатление открытости отчасти скрадывается тем, что каждая хижина окружена деревьями, их раскидистая листва иногда совсем укрывает дом от посторонних взоров.
Внутри хижин мебели нет - сидят, спят, работают на циновках. В каком-нибудь углу сложены перины и подушки, стоит сундук, а то вещи просто лежат, висят, частью в хижине, частью в пристройках, на специальных легких настилах. Быт облегчен до предела, хотя жителей деревни, как и вообще архипелага Гилберта, не назовешь первобытными людьми: они приобщились ко многим сторонам современной цивилизации, в деревне можно найти и радиоприемники, и велосипеды, не говоря уже о современной посуде, орудиях труда и одежде. Бытовая неприхотливость идет не только от относительной бедности островитян: она сложилась на основе долгой традиции и поддерживается спецификой жизни в тропиках, где сама природа вынуждает человека во многих ситуациях до предела облегчать свою жизнь, ограничиваться немногим, не делать больших материальных запасов и не особенно задумываться о завтрашнем дне.
В центре деревни стоит громадное (по здешним масштабам) с очень высокой крышей здание на прочных подпорках из тесаного камня пова, без свай и настилов. Крыша низко спускается, так что надо, входя внутрь, наклонить голову. Земляной пол усыпан мелкими, с острыми гранями камешками, там и сям разбросаны циновки. Изнутри открывается довольно сложная и красивая конструкция крыши телау, уходящей высоко вверх. Ее поддерживает целая система продольных и поперечных балок, жердей, дранок, которые скрепляются с помощью жгутов. Каждый тип опор и перекрытий имеет свое название, так же как и части крыши. С передней и задней стороны крыша спускается несколькими ярусами. Это - манеаба, общественный дом деревни. Здесь происходят официальные встречи, собрания, сюда сходятся по торжественным случаям, на праздники, здесь и что-то вроде клуба, где молодежь может попеть и потанцевать. Когда мы подошли сюда, в одном углу разместилась семья со всем своим скарбом, детишки играли на циновке, женщина рядом подготавливала трапезу. На другой стороне сушилось чье-то белье. Время от времени люди заходили под крышу, сидели, курили, беседовали, снова уходили.
Наш интерес к манеабе, простиравшийся до мельчайших подробностей, способствовал сразу же установлению тех отношений, что особенно по душе этнографам: туземцы быстро поняли, что никакой корысти в наших расспросах нет, как нет в них и чего-то опасного и непонятного; что нам действительно интересно знать названия всех деталей крыши и действительно важно записать эти названия возможно точнее, с передачей особенностей языка - этого почти невоспроизводимого носового Н, согласного, представляющего нечто среднее между Б и П, гласных, похожих и непохожих одновременно на наши. По многу раз они повторяли отдельные слова, поправляли нас, пока не добивались верного произношения. Наградой нам был удовлетворенный громкий смех. Странное дело, они смеялись не тогда, когда слышали наши ошибки - тогда они, как бы извиняясь за трудности своего языка, смущались и повторяли слова - а когда мы наконец-то произносили их верно.
Белых на острове немного, туристов здесь, видимо, и вовсе не бывает, да и что делать здесь избалованному современному западному туристу, когда в деревне нет отеля и вообще нет ничего в смысле обычного туристского комфорта. Однако для жителей Буота белые не в диковинку. Когда мы приехали, на Маракеи жил с семьей молодой врач, который объезжает острова, консультируя местных жителей. Но этот врач, конечно, ни манеабой, ни вообще постройками, предметами быта, одеждой, языком, обычаями не интересовался, да и никто этим не интересовался здесь до нашего появления. Наши расспросы, наш интерес как бы открывает самим микронезийцам значительность и важность быта, в котором они живут. До сих пор для них был понятен интерес к прошлому, с одной стороны, и к чужому - с другой, теперь они вдруг увидели, что повседневное, привычное, окружающее их тоже полно интереса. К тому же они быстро убеждаются, что нам все в диковинку (мы ведь не признаемся, что о многом мы читали, кое-что видели на других островах и о многом можем судить в силу нашей научной специализации) и что знакомство с их миром вызывает у нас радостное настроение. Похоже, оно быстро передается и им, и возникает атмосфера доверия и открытости.
Жители Буота, как и большинство островитян, гостеприимны, приветливы, дружелюбны. Мне показалось, однако, что в отношении к нам эти природные и воспитанные традицией качества поднялись, что ли, на несколько градусов и приобрели особенную душевность и искренность. Это не выражалось в какой-то особой щедрости - простой и в общем-то бедноватый быт деревни исключал что-либо похожее на кавказское или среднеазиатское гостеприимство,- но надо было видеть, с какой открытой радостью несли нам люди кокосовые орехи, бутылки с разведенным сиропом из кокосового сока, раковины, плетеные изделия из листьев пандануса.
Мы проходим по деревне мимо хижин, возле которых на циновках сидят хозяева, занимаясь своими делами. «Конамаури» - «здравствуйте»,- звучат приветствия. Лица людей непроизвольно растягиваются в улыбки, неизменно открывающие ряды ослепительно белых зубов. Взрослые ведут себя степенно, молодежь не стесняется выражать свои эмоций громко.
Внешне жители Буота резко отличаются от полинезийцев, которых мы видели на Западном Самоа и на Фунафути, и от меланезийцев, живущих на Новых Гебридах, на Новой Каледонии и на Фиджи. По сравнению с полинезийцами или фиджийцами, склонными к полноте, ширококостными, крупнолицыми, курчавоволосыми, здешние туземцы выглядят подтянутыми, худощавыми, лица у них суховатые, с более остро обозначенными скулами, с чуть-чуть намеченным удлинением глаз. В чем-то они немного напоминают малайцев, которых мы видели в Сингапуре. Вообще есть легкое ощущение чего-то азиатского в их антропологическом типе.
Лица у них живые, выразительные, взгляд быстрый, речь громкая, чуть резковатая, и движения не столь неторопливы и плавны, как у их соседей с Фунафути. Они ходят легко и быстро, не очень засиживаясь на одном месте.
Первая встреча с народной песней на том или другом острове всегда сулит какую-нибудь неожиданность и неизменно приносит большую радость.
Когда в первый день мы высадились в деревне Буота, мы с Н. М. Гиренко устроились в тени платана, увитого тяжелыми лианами, и, попивая кокосовый сироп, завели беседу с местным учителем Тепау Якоба - молодым человеком из соседней деревни. Любопытная подробность: на другой день мы побывали у него в гостях, познакомились с женой, видели его детей - четверых погодков. Хижина его, образ жизни, одежда - ничто не выделяют этого молодого интеллигента из среды, в которой он вырос и в которую он вернулся после учения. Эту черту в поведении местной интеллигенции я подмечал и на других островах. Сродство не ограничивается лишь внешними бытовыми проявлениями: наш новый знакомый знает деревенскую жизнь изнутри, во всех ее проявлениях, и сам живет заботами и интересами деревни. Благодаря ему состоялась праздничная встреча с народной песней на острове Маракеи. Он вообще оказался очень ценным для нас посредником, потому что английским в деревне владеют мало.
К нам подошла женщина средних лет с ребенком на руках. Воспользовавшись случаем, я спросил учителя, поют ли матери колыбельные своим детям. «Lullaby?» - переспросил учитель.- «Да, да, здесь их поют». Женщину долго упрашивать не пришлось. Она тут же уселась на землю и, покачивая ребенка, запела. Я даже вздрогнул от неожиданности - такая это была необыкновенная колыбельная: мать пела ее на пределе громкости, резким, напряженным, выходившим из самой глубины гортани голосом. Невозможно себе представить, как могли засыпать дети под такое пение. Но, должно быть, засыпали. Содержание песни было очень простым, а заключительные ее слова соответствовали своей требовательностью манере пения: «Мать баюкает ребенка, который плачет, и говорит ему: спи, потому что ты хочешь уснуть».
На голос поющей сразу же сошелся народ. Группа мужчин и женщин уселась передо мной и спела приятную мелодичную песню, как выяснилось, религиозного характера. Одну из девушек вытолкнули в круг, я понял, что это деревенская певунья. В сопровождении хора она спела одну песню. Но дальше дело не пошло: и время было неподходящее, и отсутствовали главные запевалы, и, как я понял, жителям деревни не очень нравилась идея устраивать концерт экспромтом, они хотели бы его как-то подготовить. Поняв это, я попросил разрешения приехать с магнитофоном на завтра, и по просветлевшим лицам окружающих было видно, что такой вариант и их очень устраивает. Мы еще немного посидели, я угостил всех русскими сигаретами, и мы расстались до следующего дня.
Утром второго дня мы снова были на берегу. Мы уселись в манеабе на больших циновках, разложили свое имущество, стали поджидать людей.
В манеабу постепенно сходился народ. Ребята принесли раскрытые сверху кокосовые орехи.
Удивительное ощущение всякий раз охватывало меня, когда я попадал в подобную обстановку. Снаружи - в нескольких шагах от нас - непереносимая жара, от которой не спасают ни тень деревьев, ни обмахивание веером, ни море. Но как только мы заходили и садились в открытой хижине, мы будто попадали в другой климат: тотчас же легкий прохладный ветерок начинает обдувать нас, и мы чувствуем, что оживаем. А когда к этому добавляется еще прохладноватый, чуть-чуть сладковатый, слегка замутненный сок только что сорванного кокосового ореха, становится совсем хорошо.
Кокосовых орехов здесь масса, и нам их подносят все время. Я обратил внимание на то, как их здесь вскрывают. На Фунафути, например, тремя ударами мачете делали треугольник - наподобие того, как у нас метят арбузы - и сразу добирались до сердцевины. Здесь же сначала очищают верхний конец ореха, а затем последним ударом ножа отрубают верхушку ядра; образуется отверстие с трехкопеечную монету, закрытое пленкой копры, которую снять уже не составляет труда.
Рядом со мной оказался мальчик лет одиннадцати, плотный, с высокой копной жестких волос, с живыми умными глазами. Одет он был, как и большинство мужского населения деревни, в пестрый кусок ткани, опоясывавший бедра. На ткани были изображения солнца, какого-то чудовищного пресмыкающегося, рыб, сбоку шла надпись «Острова Эллис». Мальчишка бойко говорил по-английски и оказался для меня незаменимым помощником. Громко и требовательно он быстро собрал группу ребят, которые тут же, без всякого аккомпанемента и без участия взрослых спели мне несколько своих песен, содержание которых мой юный друг тут же переводил. Одна из песен говорила о человеке, закончившем постройку дома в деревне, другая же была явно шуточной по тону, и из нее можно было заключить, что современный быт Маракеи не свободен от коллизий, характерных для многих других точек земного шара: какой-то мужчина отправился по делам на соседний остров, пропил там все деньги и теперь возвращается домой. Впрочем, судя по разным признакам, здесь это - скорее исключение, чем норма.
На Маракеи, как и во многих других местах Океании, употребление спиртного не очень-то распространено. Кое-где вообще существует сухой закон, а там, где его официально нет, старшие следят, чтобы он поддерживался традицией. В этом смысле показательна одна песня, которую в тот же день, только попозже, я записал в манеабе.
Вся деревня любит чай. Мы любим чай, И у нас есть кокосовые орехи, С которыми можно пить чай, И все будет очень хорошо.
Песню эту пели с таким упоением, так весело, что нельзя было не поверить, что для ощущения радости жизни людям из деревни Буота вполне достаточно этих двух безобидных напитков.
А мы очень жалели, что не услышали эту песню накануне : мы могли бы порадовать наших хозяев пачками отличного грузинского чая.
Наконец-то собрались все те, кого в деревне считают главными певцами. Несколько молодых женщин, иные с детишками на руках, девушки - среди них вчерашняя певунья Карьяба, парни с несколькими гитарами уселись на циновках. Первая песня была спета под большой шум - переговаривались девушки, сидевшие рядом с певшими, кричали ребята. Мне пришлось терпеливо объяснять, что в микрофон попадает все - и хорошая песня, и посторонние звуки. Тут же я воспроизвел запись, и хохот поднялся невообразимый, когда сквозь звучание песни послышался чей-то смех, чьи-то голоса, восклицания. Зато после этого запись шла отлично, и сидевшие в манеабе сами теперь предупреждали вновь приходивших, что микрофон обладает способностью улавливать все звуки, и с упоением рассказывали о том, что случилось при первой записи.
В конце концов под крышей манеабы собрались, похоже, все деревенские певцы одного примерно поколения: старшие девушки и парни, молодые женщины и мужчины и даже две-три женщины постарше. Много сошлось и сбежалось совсем еще молодых девушек и юношей и ребятишек, и было видно, что эти песни им хорошо уже знакомы, они и сами свободно и умело включались время от времени в пение, не нарушая ансамбля. Нетрудно было убедиться, что собравшиеся здесь составляли хорошо спевшийся коллектив. Все они знали, кто на что способен, кому какую роль исполнять в той или другой песне. В то же время - как в настоящем ансамбле - исполнение не было для них таким уж простым бездумным делом. Перед каждой новой песней они подбирали тон, иногда по нескольку раз меняли его, стараясь напасть на самый удобный, пробовали голоса, аккомпанемент, сговаривались, кому начать. Бывало, что начатую песню обрывали, чтобы исполнить получше. Все это может показаться естественным, и со всем мне не раз приходилось встречаться во время собирательной работы в русских деревнях. И на других океанийских островах такое отношение к пению, наличие известной сознательной установки на слаженное исполнение, элементы певческой школы мне уже встречались. Но не всюду. Кое-где еще сохраняется и другое, более старое и, если угодно, более архаическое и примитивное отношение к пению: человек поет, как птица, процесс пения столь же естествен, что и речь, и подобно тому как люди не задумываются над механикой произнесения слов, а просто говорят их, так и песня, не требуя какой-то специальной подготовки, сама выливается наружу.
В этих двух отношениях к пению, в двух исполнительских манерах отражаются в сущности два уровня фольклорного развития.
Самое любопытное - это что оба уровня могут совмещаться в пределах одного коллектива. Я мог убедиться в этом лишний раз под крышей манеабы в деревне Буота. Первую «серию» исполненных песен можно было назвать типично молодежной. В содержании их было много созерцательного, наивного, лирического, и самые конфликтные ситуации в них были вполне на уровне повседневного молодежного быта. В одной песне юноша жаловался, что девушка не отвечает взаимностью на его любовь; в следующей песне уже девушка рассказывала, как она приглашала парня в кино, но тот отказался, сославшись на занятость, и она увидела его в кино с другой. Спели песню одни молодые мужчины - о прожитых годах и о том, как надо было их прожить правильно, о том, что им хотелось бы поиграть с девушками, да возраст уже не тот. Была здесь и непременная песня об острове и о красивой лагуне в середине круглого атолла.
Женские голоса в этих песнях звучали по-вчерашнему, необыкновенно резко и громко. Я вспомнил при этом наши южнорусские села, где иногда тоже любят так петь - «орут песню». У девушек напрягались мышцы на шее, краска приливала к лицу, они старались доводить голос до предела, но нигде не срывались при этом, сохраняя музыкальность и стараясь вести песню долго без вздохов.
Мужские голоса, напротив, звучали спокойно, на низких тонах, и это создавало приятное созвучие. В музыкальном строе песен ощущалось соединение традиционного фольклорного стиля с новыми мотивами и мелодической манерой, можно сказать общеокеанийской. Наблюдения на Маракеи еще раз подтвердили мое представление о том, что на островах Океании развивается сходный в общих особенностях, но повсюду принимающий своеобразный облик современный песенный фольклор - молодежные песни под гитару или укулеле (в Буота укулеле пока не очень популярна).
Что касается песен деревни Буота, то мне показалось, что они в большей степени, чем песни полинезийские, сохраняют связи с музыкальными традициями народа, в них больше остатков первобытности, что ли. Между тем мне хотелось бы услышать песни старые, не прошедшие сквозь современную обработку.
И когда я спросил, не сохранилось ли песен от тех времен, когда жители островов еще были самостоятельными, когда между отдельными племенами происходили войны, сидевший в отдалении от группы певцов пожилой мужчина сразу оживился. Да, он слышал от стариков одну такую песню и может исполнить ее.
Все в манеабе замолчали, и в деревне, кажется, стало тише.
Так ведь всегда должно быть перед исполнением старой эпической песни. Он запел ее - без аккомпанемента, слегка отбивая такт рукой. Это был речитатив, по-видимому, очень архаического типа, мужчина проговаривал его почти на одной ноте, и лишь в начале каждой строфы он повышал голос, как бы восклицая что-то. Речитатив тек быстро и отчасти напоминал мне один из северных былинных речитативов.
Когда я попросил перевести слова, Якоба объяснил, что песня сложена на старом языке. Я смог лишь записать, что это песня о старых воинах и что сложил ее Теуак Темой. Песня вспоминает о том, как однажды сошлись два отряда; тот, в котором был Темой, предварительно все разведал, хорошо подготовился к сражению и разбил противника.
По реакции аудитории можно было заключить, что песню эту в деревне никто уже не знает. Хотя певца слушали с вниманием и уважительно, чувствовалось, что для собравшихся в манеабе это все далекое и, видимо, чужое. Мне же оставалось только пожалеть, что за отсутствием времени не удастся по-настоящему выяснить состояние эпической традиции в деревне.
Снова зазвучали современные песни - о любви, разлуке, о встречах. Я записал прелестный дуэт, в котором повторялись слова: «Я не могу остановить свою любовь».
А затем начались танцы. Сперва и они больше напоминали современные и несли отпечаток некоторого озорства. Когда ударили гитары, раздалась песня, девушка, вышедшая в круг, стала вызывать меня. Пришлось выйти. Впрочем, музыка была такой зажигательной, а девушка с таким искусством и непосредственностью двигалась, приседала и делала все те движения, какие можно увидеть на любой современной танцплощадке, и все вокруг так азартно хлопали в ладоши, кричали от радости, приветливо улыбались, что не поддаться всей этой атмосфере безудержного веселья было невозможно.
Так и записан у меня на магнитофоне этот танец - с песней, с хлопаньем в ладоши, с вскриками, взрывами смеха,- кажется, вся манеаба плясала в этот момент.
Затем начались традиционные танцы. Увидеть их здесь мне хотелось давно - с того незабываемого вечера на острове Науру, когда президент этого маленького государства дал прием в честь нашей экспедиции. В конце приема тогда выступили танцевальные коллективы общин островов Эллис и Гилберта. Было это удивительное состязание двух кое в чем похожих, но во многом разных фольклорных традиций, каждая из которых по-своему замечательна. У гилбертийцев тогда запомнилась молодая женщина, одетая в специальные одежды - юбочку из крашеных листьев, крылья - рукава, с венком из цветов на голове. Она танцевала, изображая полет птицы фрегата: в кульминационные моменты танца она трясла бедрами, руками, казалось, что вот-вот она оторвется от земли, лицо ее, сияющее, выражало торжество.
И вот теперь в деревне Буота нам предстояло снова увидеть эти старые танцы, в истоках своих связанные с древними обрядами и культовыми празднествами.
Несколько мужчин принесли большой деревянный ящик, поставили его вверх дном, уселись вокруг него. Тут же разместились женщины, парни, отложившие в сторону гитары. Это был хор. Несколько человек затянули песню - на сей раз без всякой подготовки, сразу.
Первые такты песни шли медленно, спокойно, без аккомпанемента, затем в нее вплелись женские голоса, и поющие стали отбивать такт ладонями. Песня усиливалась постепенно, крепчала, затем неожиданно - по свистку главного в хоре - ритм и темп ее переломился, она резко убыстрилась, и в тот же момент мужчины стали отчаянно бить ладонями по поверхности ящика, так что гулкие удары едва не заглушали хор. Несколько девушек, сидевших впереди, встали и начали делать танцевальные движения под хлопки в ладоши, а затем под удары своеобразного барабана - ящика. Перед нами заранее извинились, что костюмов не будет, но танцы и так были удивительно хороши. Девушки стояли на полусогнутых ногах, на полной ступне. Во время танца они почти не переступали и не распрямляли ног, не приседали. Танец их состоял в легких поворотах туловища и головы, но главное - в движениях руками, вперед и в стороны. Вся красота и выразительность были в этих руках. Хор постепенно убыстрял темп, усиливал громкость, певцы приходили в экстаз, но девушки, словно бы не поддаваясь влиянию хора, оставались почти так же спокойны, изящны, лишь чуть-чуть в их движениях обозначались порывистость и легкое возбуждение.
Нам объяснили содержание трех исполненных танцев. Первый, собственно, был связан с местным обычаем встречаться деревнями в танцевальных состязаниях. В таких встречах две группы располагаются друг против друга и поочередно показывают свое искусство. Но все начинается с вызова. Первый показанный нам танец и был таким вызовом. Хор пел: «Мы лучше и умнее, мы и танцуем лучше», а девушки движениями старались подтвердить это. Слова второго танца я уже приводил выше - они прославляли прелесть чая. Третий же заключал в себе нравоучительный смысл. Хор пел, обращаясь к молодому человеку, который хочет уйти из дому: он должен посоветоваться с родителями, получить их наставления, и тогда удача будет сопутствовать ему.
Видимо, сами танцы не были просто иллюстрацией к словам хора, но несли какой-то свой, может быть даже совсем независимый от них, смысл. Конечно, надо думать, у каждого танца была какая-то конкретная программа, но ведь не в ней было дело, и не она определяла непередаваемое очарование этих поз, движений, выражений лица. За всем этим виделось большое содержание, угадывалась давняя традиция, открывалась высокая культура народного женского коллективного танца, удивительно мягкого, сдержанного, полного скрытой страстной силы, которая, казалось, вот-вот вырвется наружу и выплеснется в каскаде танцевального огня, но которая, однако, давала себя знать лишь в неуловимых переменах движений рук да легких поворотах головы.
Вся деревня вышла на берег, чтобы проводить нас. В тот самый момент, когда подошел наш бот, на остров обрушился тропический ливень. Под сплошным дождем мы грузились, ребята и девушки прямо в платьях помогали нести по воде рюкзаки, треноги, ящики с аппаратурой, а потом, когда все уже было принято на борт, они окружили лодку, крича и махая нам на прощанье. «Са'або, са'або!» - слышалось со всех сторон, и мы повторяли эти же слова - «саабо, саабо!» («до свидания!»), пока плотная пелена дождя не скрыла от нас очертания берега.
К тому моменту, когда «Дмитрий Менделеев» поднял якорь, дождь прошел, и солнце осветило нам последний раз зеленую массу берега, белую полосу прибоя и голубые пятна открывавшейся местами сквозь чащу пальм лагуны Маракеи.
Многочисленные встречи с фольклором островов Океании дали богатый и разнообразный материал для научной работы, для исследования целого ряда проблем истории фольклора и для понимания современных процессов в нем.
Но собранный материал интересен не только ученым. Музыка народов Океании, вероятно, может заинтересовать и наших композиторов, а главное, ее разнообразный, богатый, колоритный язык не оставляет равнодушным любителя народного музыкального искусства. В какой-то степени мне удалось осуществить обещания, которые я давал певцам на островах: записи, сделанные мною, уже звучали по радио и в телепередачах, их слушали в аудиториях и залах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Риги, Петрозаводска. Повсюду я мог с удовольствием убедиться, что песни папуасов, меланезийцев, полинезийцев, микронезийцев, привезенные из экспедиции «Дмитрия Менделеева», воспринимаются не просто как экзотическая диковинка: есть в них то музыкальное содержание, та художественная сила, то очарование, которые делают их очень близкими, понятными людям, никогда не бывавшим на островах Южных морей.
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'