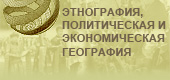
Разведка
Одним глубоким устьем впадает в Мезенскую губу река Мезень. По правому берегу ее, недалеко от моря, стоит городок Мезень, к северо-востоку от городка, в самом устье - промысловая деревня Сёмжа, еще севернее - село Несь на речке того же названия, впадающей в Мезенскую губу. Текла себе речка, долго никем не знаемая, безымянная. Наткнулся на нее человек, распознал, облюбовал ее и прилепился к ней сначала-чумом или шалашом, потом избушкой охотницкой, с каменкой по-черному. Избушка эта, как заторное бревно на сплавной реке, останавливала собой человеческий шаг, человеческую судьбу, и окружили эту зачинательницу-избушку другие избушки, избы, амбары, сараи. Вытягивалась становая жила поселка - уличка-односторонка, а к ней, окна в окна, вторая потянулась линия, и уже двурядная улица выросла, от нее переулочки, куточки, тупички - вот и село.
К северу от Неси много речек прорезало Канин полуостров, и несут они тундровую водицу свою одни в Белое море на запад, другие на восток - в Чешскую губу. Канин-то полуостров с юга на север как хребтиной по середке камнем обозначился, ну а с камня водораздельного и сбегают речки на две стороны от хребта к морю. Названия у речек все коротенькие и подчас для русского человека не вовсе понятные: Несь, Чижа, Чеша, Шомокша, Кия, Месна, Торна, да мало ли их. А в Чешскую губу бегут речки Вижас, Ома, Снопа, Пёша, Индига. Промысловые все это речки. Навагой славятся все они, и каждая свою навагу дает, которая - помельче, которая - покрупнее. Вот Кия, например, отборной наважкой славится. А самую крупную в речке Индиге рюжами черпают, там навага, как налим- чик, и цветом светла и вкусом с большой наважьей сладостью.
По всему морскому берегу и ненцы, и русские тюленя и нерпу бьют. Русские на береговой зверобойный промысел идут сюда и с Мезени-города, и с поморских деревень на вешнюю путину. Идут в карбасах с полозьями: тут тебе и лодка - море преодолевать, тут тебе и сани - через матерые льдины перетаскивать своим плечом на лямке. А в карбасе-то припас всяческий: и ружейный, и сетяной, и одежный, и харчевой, вплоть до пресной водицы в бочоночке.
Поморам лямка - привычное дело. Места здешние обживать через волоки шли, ушкуи на лямках перетягивали от речки к височке, от височки к озерку, к проточке, водичке стоячей и бегучей все на север, навстречу "сиверку" да "полуночнику". Тяжкое это переселенчество вошло в плоть и кровь поморскую, и тяжкое промысловое житье им досталось, да зато азартное, а при счастье - и доходное. Смотрю я иногда на святыню живописи русской - Рериховы картины и, подолгу задумавшись, просиживаю над гимном человеческому упорству, воле, энергии, стремлению в неизвестное, необоримому поиску лучшей жизни. Смотрю на его полотно "Волокут волоком", на этот жиденький молоденький соснячок в косогорье, синюю воду. Вот она подхватит смоленое пузо ладьи - и кончен тяжкий труд, поплывут ушкуи по речной дороге, утрет пот человек подолом полотняной рубахи, развяжет торбу с харчами, пожует что бог послал, зачерпнет водицы из речки, напьется и за греби возьмется или за шесты на перекате, а на широком плесе и парусок поставит. Тут-то уж вовсе передышка по очереди и вздремнуть времечко выберется. Только мужики-то у Рериха какие-то благополучненькие, в лапотках, в чистеньких льняных, видно, онучках и одежка-то беленькая,- не наши мужики, не северные. Наши волоки помрачнее, да и мужик наш поморский порезче, пожестче, крупной солью соленый.
Земля без речек и озер - мертвая глыба. А канинские речки, как сосуды кровеносные в теле, питают тундру, и все живое в ней к этим речкам, к водичке сбегается. По берегам речек полоска пойменная тянется, весной полая вода займет эту полоску, потом скатится в коренное русло, а на пойме всякого наносного добра оставит - и мусорного, и полезного. Чуть обсохнет пойма, брызнут из нее веселой зеленью осоки, хвощи, разнотравье. Повыше на берегу малышка-карлик березка с листочками в нашу копеечку - зазеленеет, тальник-ивнячок зеленым язычком начнет оленя дразнить. А кроме оленя у речек закопошится, захлопочет птица, начнет гнездиться, выводить потомство. Песец в берегах столетиями норы свои держит, тоже близ водички плодится. И мышь тундровая, лемминг,- вегетарианец, для которого зелень, растения тундровые - основа жизни,- тоже сюда же сбегается.
Так вот и село Несь у речки Несь угнездилось своими избами. В этом селе столкнулось канинское кочевое кареглазое, низкорослое, монголоидное ненецкое племя с русским сероглазым, ширококостным, русоволосым, с певучим говором по- мором-славянином.
Приехал я в Несь пятьдесят лет назад на заготовки пушнины и сырья, для сбора урожая с непаханой целины тундры. Как и во всем подлунном мире, здесь бывают и урожаи, и недороды, бывают обилие и скудость. В тот год ожидался урожай песца. "Северопушнина", доверенным лицом которой я был, раскинула сеть своих факторий. На просторах, человеческому глазу неохватных, необозримых, за кругом полярным, в устьях речек, при их впадении в соленые воды морские, в поселках Несь, Пёша и на речке Индиге возникли заготовительные, как тогда говорили, агентства.
В Несьское агентство от Канина Носа к речке Несь спускалась вся Канинская тундра примерно к старому рождеству обозами лошадными с навагой, оленьими аргишами с мясом, шкурами оленьими, пером, пухом, баклажками и бочками-арширками с соленым гольцом, кумжей, чиром, морошкой, грибами. В отдельных, подсобных нартах и ванделях ехали белоснежные канинские песцы. Везли их на Русь в обмен на чай, сахар, табак, капкан, охотничий припас, рыбную снасть, муку, хлеб, масло, юфть и сыромять, на пряники для ребятишек, на ситцы и сарпинку, на шали и цветное сукно пугуцям и не-ню - женам и дочерям.
До рождества совсем немного осталось дней. А дни-то все ясные, солнечные, но с таким морозным накалом, что завертки в оглоблях лопаются, с полозьев санных давно шинное железо сняли, "прихватывает" кованый полоз, как на песке. Лошадные обозы первые с навагой подходят, а лошадей не видать, все паром взялось. Идет обоз, будто облачко по дороге плывет. А скрип санный издалека слышно, поют сани студеную, зимнюю, протяжную северную песню, а на поворотах еще и взвизгивают, как девки на вечерке в игровой песне.
- А не пора ли на покой? - скручивая махорочную цигарку и одновременно кося глаза на старые часы-ходики на стене, как всегда тихо, будто робея, обратился ко мне Валентин Иванович.
- Да, пожалуй, и поспать надо, вроде бы все подготовили, есть чем принять тундровиков. Только вот что, Валентин, мне хочется кое-что посмотреть. Много в долг роздано, а платеже-способности дебиторов я не знаю. Давай-ка пройдемся по списку. Ты мне расскажешь, у кого сколько оленей, какой средний промысел, добросовестный ли должник... Всякое ведь бывает.
- Ну что ж, посмотрим.- И Валентин Иванович принес из конторки документы.
В те годы еще практиковалось кредитование тундровых охотников. Выдавался кредит товарами весной при выходе в тундру, на летовку. Зимой они рассчитывались за этот аванс своей промысловой добычей, оленьим мясом, шкурами - неблюем, пыжиком.
Разговор этот происходил в пушной-приемной агентства "Северопушнины". Это были годы, когда промысловая пушнина занимала третье место во всем экспорте страны, уступая лишь зерну и нефтепродуктам. Заготовкам ее придавалось огромное значение. В 1920 году при ближайшем участии В. И. Ленина был обнародован декрет об охоте, а в 1922 году ВЦИК и СНХ утвердили "Правила производства охоты, сроки и способы".
Пушнина поступала от единоличников-промысловиков, любительской пушнины поступало мало. Все оседлое население вело свое крестьянское хозяйство, занимаясь одновременно и добычей зверя. Ненцы, как у нас говорят, "малооленные" жили промыслом, оленеводство было у них подсобным занятием.
Многооленные ненцы в большинстве своем скупали в тундре у малообеспеченных людей добытую пушнину и сдавали ее как свой промысел заготовителям. Заготовки пушнины проходили при жесточайшей конкуренции. Право заготовок было предоставлено "Госторгу", "Всекохотсоюзу", "Центросоюзу", "Сельскосоюзу" и "РАСО" - "Русско-Английскому смешанному сырьевому обществу". А в 1924-1925 годах число заготовителей увеличилось. На пушнозаготовительном рынке появились "Хлебопродукт", "Акционерное общество", "Сырье", "ЦАТО", какие-то концессионные фирмы "Дава-Бритополь" и "Ал-Америко". Все имели напряженные планы. Надо было разворачиваться, поворачиваться, маневрировать, бороться за охотника, создавать клиентуру, завозить наиболее ходовые товары, предусматривать специфические потребности коренных промысловиков, их национальные традиции.
Работа была горячая, напряженная и потому увлекательная.
- Да, списочек порядочный, да и суммочки есть, прямо скажу, сомнительные. Ну вот этот, например, Бобриков Прокопий Алексеевич на пять тысяч кредитован. Чем получать будем? Хорошо урожайный год, и успеем везде вовремя взять пушнину раньше конкурентов, а то как бы не вышло по пословице: "Торговали - веселились, подсчитали - прослезились". Как ты думаешь, Валентин Иванович?
- Не я давал, Лев Николаевич. До вас ведь Зинич здесь работал, а он знал, кому давать. Рассчитаются. Ну взять хоть бы того же Бобрикова - Лаптей, по прозвищу,- разве его кредитом задавишь? Оленей у него больше трех тысяч - на три стада с сыновьями пасет. Промысла своего, конечно, не жирно, зато ему всяк везет: кто за мясо платит, кто за живого оленя, кто берет у него молодых оленей и на ездовых выучивает, на них промышляет зиму, а весной обратно Пронюшке сдает уже обученных, ездовых, а за пользование песцами рассчитывается. Семья у него не ахти как велика, а товаров берет тоже с расчетом, приторговывает нашим товаром-то, у бедняков к августу - сентябрю и чай другой раз кончится, и табачок прикурят, а то и сухарь приедят. Вот Пронюшка и поддерживает их, у него всегда в запасе есть. Да и другие, у которых долг-то тысячный, так же живут. Латышев вот Андрей не меньше стадо пасет. Да, живет еще тундра по-старому - у кого тысячи олешков, а кто и по пальцам сосчитать может.
- Ну, что ж, Валентин Иванович, наше дело потихоньку тундру перестраивать. Об этом потом, а теперь отдыхай.
- Не придется, Лев Николаевич.
- Почему? Отдыхай! Дела все переделали.
- Не слышишь разве?
Да! Вроде полозом нарта провизжала да и встала у наших окон к подизбице! Видно, с тундры кто-то.
Кто-то тяжело поднимался по лестнице к нам на второй этаж.
- Ханьдорово! - В широко распахнутую дверь, как морская волна, ворвался клубами ледяной воздух.
- Мэрку! Мэрку! (Быстрее, быстрее!) - крикнул Валентин Иванович. Это значило - быстрей затворяй дверь. Ненцы, привыкшие к своим отмашным из оленьей шкуры дверям, к постоянному холоду, всегда как-то медленно входят в русские избы и медленно закрывают дверь, часто, еще не закрыв, начинают здороваться, а потом, спохватившись, бросаются закрывать.
Почти загораживая своей огромной фигурой весь просвет двери, в широкой малице, покрытой зеленой бархатной маличной рубахой, в белых, расшитых ненецким орнаментом из черных оленьих лап пимах, в подвязках с гарусными кистями, стоял огромный ненец.
- Лаптей! Пронюшка Бобриков! - успел шепнуть мне Валентин, пока гость через голову стягивал с себя малицу.
Сбросив малицу на мешок, как потом оказалось, с песцами, Прокопий Алексеевич посмотрел в "святой угол" и, не обнаружив там икон, вместо крестного знамения поправил пятерней сивые волосы, стряхнул с пиджака оленьи шерстинки и, ударив ногу об ногу - по привычке отряхивать снег,- подошел ко мне и протянул широкую темно-коричневую руку.
- Ну, здорово! Здорово, новый, молодой хозяин! Здорово, Валька! - обратился он к Валентину Ивановичу.
- Здорово, Прокопий, как летовали, как промышляли?
- Немноско холосо! Олени много не болели. Гнуса мало было. Лето не заркое было. Олень саво илэ (олень хорошо жил).
- Я сейчас Марфе крикну, самоварчик она нам вздует, чайку попьешь.
- Ни тара (не надо)! Я к Коткину Никандре пойду. У меня к нему дело. Полозья к нартам он мне должен припасти, палки и хореи, ну и масло у него заберу, кислого молока, сметаны, он все мне готовит из году в год. Никаска-то дома?
- Дома. Навагу повезет на днях в Мезень, а может, и в Архангельск, как договорятся. Большой обоз собирают.
- Тарем (так). Ну, я посол. Вот тут месок с песцами. Посмотри, разбракуй,- обратился ко мне Прокопий, подавая мешок, завязанный по устью сыромятью.- За долг привез для началу, падер мне выписи.
- Выпишу квитанцию.
- Ну, а от Никандра я вернусь и сразу обратно. Все приготовь.
- Сколько у тебя песцов-то? Давай сосчитаем.
- Без меня сосчитаете. Сиде-ю нохо (двадцать песцов). Ну, я посол. Скоро вернусь и в чум поеду.
- Вот вам и Лаптей! - как бы снова представляя мне Прокопия, раздумчиво произнес Валентин Иванович.
Развязали мешок. Песцы добрые, у некоторых чуть-чуть желтизна проступает. Мездру посмотрел. Звери прошлогодние, январские, февральского пастевого промысла.
- Из кулёмок взяты,- уверенно заявил Валентин.
- Вижу.

Песцы добрые
Разобрал по сортам, по дефектам. Лапы все, хвосты также. Товар отборный. Заношу в квитанцию, подбил итог по сумме, по количеству.
- Что за чудо, Валентин! Песцов-то не двадцать, а двадцать один получается. Пересчитай-ко еще раз по кучкам.
Считаем вдвоем. Двадцать один получается. Ошибся, видать, Лаптей. Повесили отдельно от другой пушнины, что уже накопилась от русских оседлых охотников.
- А я все-таки самоварчик вздую. Чайку крепенького выпьем, а то в сон клонит. Когда Лаптей от Никандра придет, бог его знает.
Минут через двадцать с пыхтящим самоваром появился Валентин. Из лавки принес мятные пряники, сахар.
- Старый стал Лаптей,- продолжал разговор Валентин.- Старшему-то сыну, Ивану Прокопьевичу, под пятьдесят поди- ко, а самому-то старику восьмой десяток идет. Тяжел стал. Не менее восьми пудов туша-то. Зимой на пяти быках ездит. Здоров, нечего сказать.
- Могучий старик. Видно, издалека едет.
- Да об эту пору они где-то около Кии стоят, надо быть. Одной нартой приехал. Тундру знает, как мы свою избу. Обрати внимание, Лев Николаевич, зубы-то у него все целешеньки, только короткие, за всю жизнь-то, наверное, гору оленьих костей обглодал, вот и сточились.
Хитер. Я как-то приехал к нему в стадо врасплох. Стадо-то все у чума, на тандере было. Спрашиваю за чаем: сколько же у тебя оленей-то, Прокопий Алексеевич? Нахмурился, видно, рассердился и говорит так, вроде мимоходом: да сот шесть льзя быть будет, а в стаде-то, на взгляд видно, тысячи полторы. Да у сыновей столько же. Вот ты его и возьми за рубль двадцать.
Опять скрипнули полозья и вошел Лаптей.
- Ну, все дела управил. Разбраковал песцов-то?
- Как же, как же, Прокопий Алексеевич! Разобрал, квитанцию выписал. Что брать будешь из товара?
- Ничего не надо пока, все есть. Этих всех за долг сци- тай.
- Ну, хорошо. А только знаешь, что песцов-то у тебя не двадцать?
- Мозет, девятнадцать?
- Нет, песцов-то двадцать один. Сиде-ю опой нохо,- перевел я для понятности на ненецкий.
- Хо! Хо! Хо! - каким-то утробным смехом рассмеялся Лаптей.- Ты цто думаесь, я сцитать не умею, я до тысяци сцитать умею. Вдвоем с пугуцей сцитали, в месок укладывали. Ох, молодой ты, этак работать будес, недолго проторгуес. Двадцать песцов моих, а этот лисный у тебя с подвески упал, ты его и засцитал за моего. Мне твоего не надо,- И он заколыхался в смехе своим толстым брюхом, столь необычным для оленевода-промысловика.
- Ну, как вы там с женкой ни считали, а я на двадцать одного песца квитанцию выписал и всю сумму за долг засчитал. Мась! Все, хватит.
- Ну, тюку пыдер сэр (ну, это твое дело)! Я поехал, лаком- бой (до свидания)! - И опять коричневая, хваткая рука сжала мою ладонь.
Лаптей подобрал порожний мешок, надел малицу, низко, по-стариковски подпоясался широким ненецким поясом с ножом в костяной мамонтовой ножне и с клыком медведя сзади у поясницы и вышел.
- Скоро аргисом приду,- бросил, отворяя двери.
- Лакомбой! - в один голос попрощались мы с ним.
Проводив Бобрикова, Валентин заметил: ~
- Лаптей, по-нашему сказать,- первая ласточка. За ним вся тундра повалит.?
- Хитрит он что-то. Без умысла ни одного шага не сделает.
- Отъехал,- вздохнул облегченно Валентин.- Не люблю я его. Матерый сармик (волк). Настоящий хищник. Кто в лапы ему попадет, не вдруг вывернется.
- Ну, мы о нем подумаем, как с ним дальше быть. Выйдем, Валентин, на воздух. Накурили мы здесь - не продохнешь, да и Марфа Ивановна, женушка-то твоя, морозов, вид- но, напугалась, нажарила, как в бане.
- Наша мерзлая северная кость тепло любит,- улыбнулся Валентин.
Морозный, чистейший, дистиллированный воздух освежил голову, снял усталость.
Тихо. Село спит. Не тявкают даже собаки. Все угомонились.
- Ах, и хороша же ночь! Смотри, Валентин, как небо-то вызвездилось. Медведица на Млечный Путь направилась. Тоже большой зверь небесный, только добрый и светлый. Ну, подышим - и спать. Теперь горячая пора пришла. Днем и ночью работа. С тундры человека не заставишь ждать. И напоить, и накормить надо, товар принять и свой товар отпустить. Закрутимся. Суточки-то - другие и без сна выпадут. И так всю зиму, пока не откочуют.
- Пошли спать.
В Канинской и Тиманской тундрах проработал я шесть лет. Со многими охотниками, оленеводами, рыбаками подружился накрепко.
Дружил я с Латышевым Яковом Григорьевичем, малооленный он был, зато охотник первостатейный. Много песца сдавал. Морского зверя изрядно приволакивал. И еще одно нас с ним сблизило - знал он много старинных ненецких сказов, и я записывал его эпические песни.
Сблизились мы с ним, как братья. Вот он-то и раскрыл историю с лаптеевским плохим счетом песцов.
Рассказал я ему об этом случае как-то дорогой на перекуре.
- Лаптей! Я его, как свою оленью упряжку, знаю. Хитер, как сто лисиц вместе. А двадцать одного песца за двадцать он тебе нарочно навязывал. Перед тем как на Русь ехать, собрались они в лаптеевом чуме, все многооленные: Лаптей, Эзич, Аркиндер, Хынич Николай, Сиринич Оська, шаман приехал - Канюков Степан. А я за оленями к Лаптею приехал быков попросить. Ну, меня они не опасались. Я песни пел, слушают меня везде охотно. А потом Лаптей говорит: "Слышно, новый хозяин в тундру к нам приехал пушнину покупать. Говорят, прямо из Архангельска. Надо посмотреть, что за человек. Как с ним жить. Поеду-ка я в Несь, свезу ему сколько-нибудь песцов за долг. А только я думаю так сделать: двадцать одного песца дам, а скажу, что двадцать. Как-то он решит. Обзарится на этого двадцать первого - значит, надо с ним крадучись жить, присматривать. Эти, из больших-то городов, кто знает, какие люди. Да и к нам как относиться станет, что-то о наших стадах больших неладно говорят, переписывать сызнова все собираются, так мне Никандра говорил"...
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'