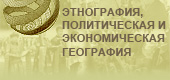
3 часть. "Дорога немного длинная"
Глава 9
Два дня я шла с Эдди, наши попытки как-то объясняться напоминали игру в шарады, и, глядя на гримасы друг друга, мы хохотали как безумные. По дороге выслеживали кроликов, обычно безуспешно, собирали съедобные корешки и травы, а больше всего просто радовались жизни. Что за наслаждение, когда рядом такой человек, как Эдди: сильный, заботливый, сдержанный, остроумный - человек, обладающий всеми качествами, свойственными обычно пожилым аборигенам, но наделенный к тому же некой особой твердостью характера и основательностью, вызывающими уважение при первом же знакомстве. Чем больше времени мы проводили вместе, тем меньше я понимала, как можно употреблять слово "примитивный" со всеми его изощренными уничижительными оттенками, говоря о людях, подобных Эдди. Если истинно цивилизованная личность непременно таит в себе болезнь - не помню, кто это изрек, - то Эдди и людей его склада, конечно, нельзя считать цивилизованными. Так как главное, что поражало в Эдди, - его душевное здоровье и цельность, его "самодостаточность". Эти свойства Эдди так бросались в глаза, что не оценить их мог только слепец.
Все вокруг внезапно переменилось. Наводящие страх провалы и ложбины страны дюн остались далеко позади. Перед нами расстилалась широкая равнина, похожая на пшеничное поле: вся она до подножия скалистых шоколадных гор и хребтов поросла желтой травой. Внизу на склонах бледно-зеленый и желтый спинифекс и такого же цвета кустарник еще цеплялись за жизнь, но, чем выше, тем безжалостней наступали на них голые камни. Деревья теснились лишь в узких промоинах, то тут, то там монотонность желтизны нарушала высившаяся в одиночестве голая красная дюна. Яркая зелень проглядывала только в долинах и глубоких ущельях, и над равниной и горами вздымался бездонный жгуче-голубой купол. Ко мне снова вернулось ощущение пространства, неоглядного, пронизанного светом безграничного пространства.
Но после того, что случилось, после охватившего меня безумия, после пережитого напряжения мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь по душам. Хотя мучившие меня растерянность и страх сменились бурной радостью, душевное равновесие не вернулось. Вера в себя не вернулась. Мне казалось, что я хожу по краю пропасти. Мне нужно было обрести свое обычное состояние духа и как-то осмыслить все происшедшее. Треть намеченного пути осталась позади, Глендл, советник общины в Пипальятжаре, был первым и, может быть, последним другом, которого мне предстояло еще встретить. Я очень хотела повидаться с ним, рассказать на своем родном языке о том, что пережила. Но Эдди твердил, что Глендл "уходил". Позднее я заметила, что он часто добавлял в конце предложения слово "уходил", обозначая таким образом направление, поэтому беспокоилась я совершенно напрасно. Но в те дни мысль, что я не застану Глендла, буквально не давала мне покоя.
Когда Эдди шел чуть позади, я чувствовала, что он смотрит на меня с недоумением, чувствовала, как его изумленный взгляд впивается в мой затылок, и будто слышала его голос: "Что творится с этой женщиной? Почему она все время беспокоится, все время спрашивает: "Эдди, а Глендл сейчас в Пипальятжаре, сейчас он в Пипальятжаре?""
- Глендл у-у-у-у-хо-хо-хо-дил, - говорил Эдди и махал в воздухе маленькой ручкой.
Произнося эти слова, он каждый раз поднимал брови и удивленно таращил глаза, придавая своему лицу выражение комичной серьезности, но мне было не до смеха. Я отворачивалась и шла дальше: у меня дрожал подбородок, в глазах стояли слезы, я боялась, что два ручья вот-вот потекут по щекам, и мне не хотелось, чтобы Эдди видел, в каком я состоянии.
Пожалуйста, Глендл, будь на месте, пожалуйста, будь на месте, мне необходимо выговориться, сказать всю правду. Мне нужен друг, мне, как никогда, нужен друг. Пожалуйста, Глендл, пожалуйста, будь на месте.
Вечером мы разбили лагерь в трех милях от Уинджелинны, родного поселения Эдди. Он ушел домой за вещами, а я осталась в лагере. Вернулся Эдди с ржавой консервной банкой, он принес в ней флакончик с жидкой мазью, флакончик с таблетками аспирина и какую-то траву. Ах да, он еще захватил красный свитер.
На следующее утро мы направились в сторону Пипальятжары, я очень нервничала, Эдди пел. Я не сверяла дорогу с картой и понятия не имела, сколько нам предстоит пройти. Вдруг справа от себя я увидела сарай из листового железа. Наверное, я неотрывно смотрела вперед и поэтому не сразу его заметила. На стенах сарая красовались детские каракули и рисунки.
Неужели это школа? В Пипальятжаре, по-моему, нет школы или есть? Глендл, кажется, единственный белый в Пипальятжаре, а может быть, нет? Я стояла и хлопала глазами. Сарай совершенно сбил меня с толку. Я не могла вспомнить, действительно ли рисунки на стенах означают, что это школа. И понятия не имела, стоят мои домыслы чего-нибудь или нет. Сарай тем не менее очень походил на местную школу. Ну конечно, это школа, что же еще. Кто-то подошел к двери, помедлил и зашагал мне навстречу, скручивая на ходу папиросу. Молодой человек выглядел как завзятый хиппи, но заговорил со мной вежливо, хорошо поставленным голосом:
- Здравствуйте, а мы вас ждем. Как добрались?
У меня перехватило дыхание. Я была готова броситься ему на шею, пасть ниц, станцевать джигу. Он говорил по-английски! Но я все еще не знала, в своем ли я уме. И если нет, мне очень не хотелось, чтобы он об этом догадался. Поэтому я, не отвечая, смотрела на него во все глаза, а по моему искаженному, беззащитному лицу расползалась кривая бессмысленная улыбка. - Глендл?
- Сверните за угол, там стоят автофургоны, Глендл в одном из них.
Молодой человек улыбнулся и предложил мне закурить. Я так стеснялась своих трясущихся рук и так боялась выдать себя неуместным словом или неловким движением, что молча покачала головой и пошла дальше, раздумывая, не удивило ли его мое странное поведение.
А потом меня осенило: в этих местах никому нет дела, в своем ты уме или нет. Поскольку безумие здесь - нечто вполне обыденное, а те, кто тут живут, сами давно немного тронулись. Незнакомые люди появляются в этих местах настолько редко, что никого не интересует, в своем они уме или нет.
Фургон Глендла я узнала мгновенно. Кто еще во дворе перед своим домом повесит на дереве несколько колокольчиков, звенящих от ветра? На единственном дереве в округе и, конечно, мертвом. Притом что никакого двора нет и в помине, только невидимая демаркационная линия, отделяющая каждое человеческое жилище от остального мира. Глендл вышел мне навстречу, мы обнялись, потом снова обнялись, потом снова, и, так как у меня отнялся язык, я занялась верблюдами, а потом мы втроем вошли в дом и приступили к священному австралийскому ритуалу чаепития. И тогда слова посыпались у меня изо рта, как горох из дырявого мешка, я говорила не помню что на благословенном родном языке, не умолкая ни на минуту. Говорила или смеялась.
Это состояние радостного опьянения длилось четыре дня. Глендл оказался необычайно гостеприимным, чутким и добрым хозяином. Он даже отдал мне свою постель с хрустящими простынями, а сам вместе с Эдди устроился рядом с фургоном. Он клялся, что предпочитает спать на свежем воздухе, что только по лености не доставляет себе почаще это удовольствие, и я поверила ему. И с благодарностью согласилась. Я, правда, уже успела привязаться к своему спальному мешку, но все-таки не устояла перед таким соблазном, как кровать. Дигжити была вне себя от радости.
В тот вечер чай приготовил Глендл. Эдди разбил лагерь в стороне от фургонов, и пожилые аборигены то и дело приходили повидаться с ним, а заодно перекинуться словом с Глендлом и со мной. Эти старики и старухи вновь привели меня в изумление. Их негромкая речь поминутно прерывалась веселым смехом, но вели они себя безупречно. И я очень жалела, что недостаточно понимаю питджантджару - язык здешних аборигенов. Я различала повторявшееся слово "верблюд" и догадывалась, о чем идет речь, но смысл разговора от меня ускользал. Могу только сказать, что в тот вечер было рассказано немало увлекательных историй про верблюдов.
День проходил за днем, а поток гостей не иссякал: кто-то заглядывал поздороваться, кто-то одолжить кружки и котелок, выпить за компанию чашку чая, поделиться своими огорчениями, попросить совета, потолковать о политике. Все это было очень приятно, но я совершенно не могла понять, как Глендл умудряется справляться со своей работой в такой обстановке. К тому же чиновники заваливали его ворохом циркуляров и ведомостей, а он терпеть не мог бумажную канитель. Должность советника общины в чем-то довольно привлекательна, хотя по существу это неблагодарная работа. Советник обязан прежде всего контролировать раздачу денег членам общины, что делается обычно через магазин, где аборигены предъявляют чеки и получают продукты по сниженным ценам. Вырученные деньги расходуются по указанию Совета аборигенов на приобретение необходимых для общины товаров. Скажем, грузовиков или оборудования для бурения артезианских скважин. Советник согласовывает деятельность различных ведомств, например здравоохранения и образования, и служит посредником между правительственными учреждениями и аборигенами. Немудрено, что на него со всех сторон валятся шишки, потому что аборигены не задумываются о том, что такое бюджет, как и почему к ним поступают деньги, а чиновники не имеют ни малейшего понятия об укладе жизни аборигенов.
Глендл рассказал мне, что в работе советника есть еще одна мучительная сторона. Ни один белый не может постигнуть до конца особенности мира аборигенов, и, чем больше белые узнают об аборигенах, тем яснее представляют себе, какая пропасть лежит между знанием и пониманием. Проходит обычно немало лет, прежде чем советник начинает разбираться во всех тонкостях своей работы, а к этому времени от его пыла уже не остается и следа. Иногда старики аборигены принимают советников в члены своего племени. Советники надеются, что это поможет им сблизиться с аборигенами, научит лучше их понимать. И они, конечно, не ошибаются, но тогда возникают новые проблемы. Став членом племени, советник оказывается в трудном положении, потому что долг по отношению к новым собратьям требует одного, а государственная служба - другого, и выполнить эти противоречивые требования, оставаясь честным человеком, очень нелегко.
Советник лучше осведомлен о возможных последствиях тех или иных действий аборигенов, и стремление защитить их вносит дополнительные трудности в его работу. Но отказ от роли заступника обрекает его на положение наблюдателя, и тогда ему ничего не остается, как изредка давать советы и позволять аборигенам совершать грубые ошибки, так как хорошо известно, что единственный способ научить аборигенов поддерживать отношения с миром белых, - это предоставить им возможность делать подобные ошибки. Не всегда же окажется рядом добросердечный чудак, готовый в любую минуту прийти на помощь и служить буфером между ними и белыми. В конце концов аборигены должны научиться ходить на своих ногах. Другого пути нет.
А Глендл... Глендл устал, дошел до предела. Попытки изменить что-то по существу вопреки сопротивлению правительства - без денег, без помощников, без оборудования - временами доводили его до отчаяния и полного изнеможения. Он страстно любил эту страну и ее людей, он относился к аборигенам с искренним уважением, и они платили ему тем же, и все-таки работа советника мало-помалу пожирала его, как пожирает почти каждого, кто длительное время пытается защищать права аборигенов где-нибудь в далеком поселении или в судебных инстанциях. На этом пути всегда оказывается слишком много препятствий. Успехи так мизерны, так ничтожны, а сделать нужно неимоверно много.
В отличие от других поселений Пипальятжаре повезло: здесь находились аборигены одного племени. Поэтому они не страдали от жестоких стычек, неизбежных между враждующими группами или отдельными представителями разных племен. В Австралии каждое племя аборигенов издав-но жило в окружении нескольких иноплеменных соседей. С одними завязывались важные хозяйственные и культовые связи, с другими складывались враждебные отношения, иногда из-за давних раздоров, иногда из-за несходства обычаев и верований. Но ответственные правительственные чиновники, конечно, не принимали во внимание исторически сложившиеся взаимоотношения племен, когда организовывали первые поселения. Здесь, в Пипальятжаре, благодаря однородности населения конфликты не приводили к столкновениям, так как существовали общеплеменные законы и традиционные способы разрешения споров. Это поселение первоначально было организовано в противовес Уинджелинне, ставшей одним из центров горнодобывающей промышленности. Многие считали, что создание Пипальятжары приведет к возникновению других поселений и вокруг Уинджелинны вырастет несколько городков-спутников.
Такой принцип организации поселений очень важен, так как помогает аборигенам избавиться от гнета государственной машины там, где наиболее остро ощущается вторжение западной цивилизации в их жизнь, - в миссиях и поселках, созданных правительством. В этом новшестве есть, правда, некоторый оттенок движения вспять: аборигены добровольно возвращаются к издавна сложившемуся образу жизни, на издавна принадлежавшую им землю, где они могут исполнять древние обряды и передавать накопленные навыки и знания своим детям. Но в то же время они могут использовать, если пожелают, привлекательные для них достижения западной цивилизации. Жизнь в таких удаленных поселениях создает наиболее благоприятные условия для сохранения самобытности и национальной гордости-аборигенов и сводит почти на нет противоборство двух различных культур. Эти поселения обычно довольно сильно различаются между собой. Иногда это примитивные стоянки без малейших признаков материальной культуры западного мира, включая даже такие предметы, как ружья, а иногда поселки, располагающие целым рядом современных удобств по выбору аборигенов. Здесь может быть взлетно-посадочная полоса, артезианский колодец, радио, фургоны с медицинским и школьным оборудованием, где работают один или несколько белых учителей. Движение за создание такого рода поселений сейчас распространяется среди коренного населения Австралии повсюду, где политическая обстановка оставляет для этого малейшую возможность.
В Пипальятжаре я узнала, что питджантджара борются за возвращение своей земли, которую они вынуждены сейчас арендовать у правительства. Сначала старики даже слышать об этом не хотели. В их представлении земля владеет людьми, а не люди землей. Аборигены верят, что когда-то, в незапамятные времена, их предки, наделенные необыкновенной силой и могуществом, исходили всю землю вдоль и поперек. Эти существа ничем не напоминали теперешних людей: одни были полулюди-полуживотные, полулюди-полурастения, другие воплощали в облике человека стихийные силы природы - огонь, например, или воду. Передвижения героев определили ландшафт страны, и земля бережет их силу, о чем свидетельствуют сохранившиеся следы странствий героев: священные или особо приметные места, где происходили важные события. Сейчас частицы прежней силы передаются аборигенам, связанным особым образом со священными местами, которые они обязаны охранять и защищать. Этнографы называют подобные верования тотемизмом, то есть древнейшей формой религии, основанной на представлениях о сверхъестественных связях людей с какой-либо группой животных, растений или явлений природы. При этом люди, живущие на определенной территории, хорошо знают обряды и легенды своего места обитания и уверены, что некоторые виды деревьев, скалы или другие творения природы обладают чудодейственной магической силой.
У аборигенов существует четкое представление, кому поручено беречь и охранять землю. "Владение" землей, вернее, ответственность за землю передается по наследству как по отцовской, так и по материнской линии. Аборигены могут также притязать на землю, где они родились или были зачаты, существуют и другие более сложные отношения между отдельными кланами, разделяющими общие заботы о той или иной части страны.
Сложные обряды, выполняемые членами клана, поддерживают их связь с прошлым, сохраняют узы между землей и ее законными хранителями. У аборигенов есть особые обряды приумножения, помогающие сохранять изобилие растений и животных и благополучное сосуществование всего живого на своей земле (а следовательно, во всем мире); есть обряды инициации мальчиков (знаменующие признание их мужчинами); обряды, помогающие поддерживать здоровье и благополучие всей общины, и многие другие. Все эти до мелочей продуманные правила и законы, вся накопленная веками мудрость сберегаются с незапамятных времен, передаются от поколения к поколению и не теряют своей живительной силы благодаря строго соблюдаемым обрядам. Каждый член общины знает обряды, принятые в той местности, где он живет, и преисполнен уважения к священным местам, принадлежащим племени (вернее, к священным местам, владеющим их племенем).
Обряды - это воплощение связи аборигенов с землей. Лишившись земли, аборигены теряют возможность сохранять в неприкосновенности свои обряды и перестают понимать, в чем смысл и суть их жизни, перестают понимать, кто они такие.
Для стариков и старух племени питджантджара проблема владения землей или аренды земли просто не существовала, и я думаю, что правительственные чиновники даже отдаленно не представляют себе, почему. Сама мысль, что землей можно владеть, казалась этим старым людям такой же нелепой, какой показалась бы нам возможность владеть звездой на небе или воздухом.
Попытка коротко рассказать о том, как аборигены представляют себе устройство мира, ничем не отличается от попытки изложить за несколько минут основы квантовой механики, не говоря уже о том, что я не являюсь специалистом в этой области. Но помимо всего прочего даже самые тщательные этнографические исследования не могут дать представления о совершенно особом отношении аборигенов к своей земле. Земля для них - всё, земля - это их законы, их моральные установления, это основа основ их существования. Оторванные от земли, они становятся тенью самих себя. Перестают быть людьми. Аборигенов нельзя отделить от земли. Потеряв землю, они теряют себя, свою душу, свою культуру. Вот почему движение за возвращение аборигенам права владения землей приобрело сейчас такое значение. Лишая аборигенов земли, мы, белые, становимся повинными в культурном и в данном случае расовом геноциде.
В тот вечер Глендл, как обычно, замесил тесто - яйца, молоко, зараженная жучками пшеничная мука грубого помола - и приготовил на ужин блины, невероятно тяжелое блюдо, вызывавшее резь в желудке после первых двух кусков. Иногда он клал свою адскую смесь в кастрюлю, ставил в печь и называл это месиво суфле.
Дело в том, что Глендл пытался ввести в рацион жителей Пипальятжары муку грубого помола, но все его усилия оказались тщетными. После вторжения белых в Австралию основой питания аборигенов постепенно стали пшеничная мука тонкого помола, чай и сахар, и, хотя Глендл не так уж свято верил в чудотворные свойства муки грубого помола, неполированного риса и бутербродов с соевым маслом, рекомендуемых доктором Сузуки, он видел, что аборигены мрут как мухи от диабета, недоедания и сердечных заболеваний, и старался хоть немного оздоровить их диету. Аборигены же терпеть не могли муку грубого помола. Поэтому Глендл распорядился смешивать ее с мукой тонкого помола и продавать в местном магазине. Но аборигены все равно терпеть не могли эту муку. В конце концов несколько стариков пришли к Глендлу и сказали, что пусть он, Глендл, ест, что хочет, а они предпочитают вернуться к мягким пресным лепешкам. Полное поражение. Хотя нет. Одна старуха сохранила верность блинам Глендла.
Мы провели много вечеров в долгих задушевных беседах. Постепенно у меня появилось ощущение, что я восстала из пепла, я уже могла понять, что важно, а что нет, могла навести порядок в своей голове, в своей душе. И я заговорила о Рике. Меня по-прежнему тяготила необходимость встречаться с ним, и на беднягу Глендла излился бурный поток моего негодования. Однажды после особенно многословных, ядовитых и бессвязных жалоб он задумчиво посмотрел на меня и сказал:
- Все так, конечно, но ты упускаешь из виду одно очень важное обстоятельство. Рик - твой верный друг. Он очень много для тебя сделал. И, как бы ни сложились ваши отношения, не забывай, что ты сама попросила его принять участие в этом путешествии, он не навязывался тебе в компанию. Ты хочешь получить фотографии, но не желаешь терпеть присутствие фотографа - чепуха какая-то.
Видит бог, рассуждения Глендла не отличались необыкновенной глубиной, но они отрезвили меня. После этого разговора я перестала терзаться из-за Рика и "Нэшнл джиогрэфик", и мой гнев постепенно утих.
Я чувствовала себя так непринужденно в гостях у Глендла и узнавала каждый день так много нового, что у меня появилось сильное искушение остаться у него до конца года, иными словами, провести лето в Пипальятджаре и тронуться в путь, когда спадет жара. К тому же мне еще многое хотелось обдумать. Я, например, условилась встретиться с Риком в Уарбертоне и понятия не имела, как к этому отнесутся в "Нэшнл джиогрэфик". Их недовольством, впрочем, можно было пренебречь, но в Пипальятджаре не хватало хорошего корма для верблюдов, они объедали какие-то неподходящие кусты, и у них начался жуткий зеленый понос. Я не находила себе места от беспокойства, мне хотелось бежать без оглядки, и страх за верблюдов пересилил в конце концов желание побыть с друзьями.
Нас двоих Эдди ни на мгновение не выпускал из поля зрения. Меня и мое ружье. Он очень плохо видел, с трудом мог прицелиться, но не расставался с ружьем ни на минуту. Я радировала Рику и договорилась, что он привезет точно такое ружье в Уарбертон. По вечерам, когда я уходила взглянуть на верблюдов, Эдди непременно сопровождал меня, он вскидывал на плечо ружье и что-то напевал себе под нос. Мне это... ну, наверно, льстило - приятно, когда тебя так старательно охраняют. Однажды вечером нам встретилась группа женщин. Костлявая старуха в выцветшем платье, болтавшемся на ней, как на вешалке, отделилась от других и нерешительно остановилась футах в восьми впереди нас. Эдди покосился на нее и радостно ухмыльнулся. Они вежливо и с большим достоинством поздоровались друг с другом, их глаза сияли, рты улыбались. Я не понимала, о чем они говорят, но мне показалось, что Эдди встретил старую приятельницу, может быть, женщину, с которой вместе вырос. Мы пошли дальше, а он все улыбался какой-то особенно счастливой улыбкой. Я спросила, кто эта женщина, Эдди обернулся ко мне с сияющим лицом и сказал:
- Это Уинкича, моя жена.
Он произнес эти слова с гордостью, с нескрываемой радостью. Никогда прежде я не видела, чтобы муж и жена так откровенно проявляли свои чувства. Я была поражена до глубины души.
Встреча Эдди с женой была первым эпизодом из многих других, убедивших меня, что вопреки авторитетным утверждениям этнографов - белых мужчин - чернокожие женщины занимают достойное место в обществе соплеменников. Сферы деятельности мужчин и женщин у аборигенов строго разграничены, что совершенно естественно при их образе жизни, но усилия тех и других направлены на решение одной и той же задачи - выжить и одинаково уважаемы. Ловкие и проворные собирательницы, женщины играют более заметную роль в добывании пищи, чем мужчины: аборигену-охотнику лишь изредка удается добыть кенгуру. У женщин существуют свои особые обряды, заботы о земле тоже в значительной мере лежат на их плечах. Мужчины выполняют свои обряды, они следят за соблюдением законов, хранят знания, накопленные племенем, произносят заклинания, для чего используют священные предметы - тжуринги. И если у нынешних аборигенов появилось представление о неравенстве полов, то они обязаны этим в первую очередь своим белым завоевателям. Невозможно даже отдаленно представить себе, насколько отличается положение чернокожих женщин в Алис-Спрингсе от положения черных женщин в Пипальятджаре.
Я помню миф одного из племен Западной Австралии, и, хотя мне не удалось проверить, насколько достоверно его содержание, звучит он весьма правдоподобно. Когда-то в давние времена власть в племени принадлежала женщинам. Они производили на свет потомство, защищали своих соплеменников, помогали им сохранять жизнь, так как умели находить пищу, и, естественно, занимали в племени более высокое положение, чем мужчины. Женщины, кроме того, владели знаниями и прятали их в пещере, известной им одним. Мужчины сговорились и решили похитить знания, чтобы сравняться с женщинами. (Дальше явный сбой.) Женщины узнали об их планах, но не захотели защищать свое достояние, так как поняли, что притязания мужчин справедливы и ради сохранения мира и согласия надо им уступить. Женщины позволили мужчинам похитить знания, и мужчины владеют этим даром до сих пор.
Я спросила Эдди, не хочет ли он дойти со мной до Уорбертона - соседнего поселения в двухстах милях к западу от Пипальятджары. И была горько разочарована, когда он сначала не согласился: заявил, что слишком стар для таких прогулок. Что у него к тому же нет подходящих ботинок, хотя эту проблему я могла бы легко разрешить, купив ему ботинки в местном магазине. Но я подумала, что он справедливо напомнил о своем возрасте. Такому глубокому старику, наверное, в самом деле не под силу ходить пешком по двадцать миль в день. Конечно, у меня есть Баб, и Эдди мог бы ехать на нем верхом. Я поделилась своими сомнениями с Глендлом, но он рассмеялся и уверил меня, что Эдди ходит лучше нас обоих. Глендл не сомневался, что Эдди пойдет со мной, он видел, как засверкали глаза старика, когда я с ним заговорила, и, по мнению Глендла, мне просто невероятно повезло, так как Эдди пользуется большим уважением среди своих соплеменников. На следующее утро Эдди сказал, что решил все-таки пойти со мной. Ему нужно было кое-что приобрести перед дорогой, поэтому мы отправились в магазин и купили новые башмаки, носки и кусок брезента для Уинкичи. Магазин представлял собой обычный довольно тесный сарай из оцинкованного железа, где торговали предметами первой необходимости: чаем, сахаром, мукой, иногда фруктами и овощами, лимонадом, одеждой, посудой. Запасы пополнялись раз в две недели: из Алис-Спрингса приезжал автофургон или прилетал маленький самолет.
На следующее утро все было готово, и мы тронулись в путь. В Пипальятжаре я рассталась с изрядной частью багажа, тюки уменьшились, грузиться стало легче. На протяжении всего путешествия я при каждом удобном случае избавлялась от лишных вещей, пока не осталось только самое необходимое. Глендл сделал мне царский подарок, специально заказанный в Алисе: маленькие полиэтиленовые мешочки с белым вином и несколько пачек сигарет. Эдди взял с собой только консервную банку с лекарствами. Я уже давно заметила, что его мучает боль в плече. Я решила, что у него артрит, но утром в день отъезда, когда заболевший Глендл лежал в постели, а мы с Эдди бегали около верблюдов и пытались что-то еще доделать, с Эдди заговорил какой-то старик. Потом они оба отошли в сторону ярдов на пятьдесят, и Эдди, не обращая внимания ни на меня, ни на тех, кто пришел нас проводить, наклонился над большим котлом, а старик принялся размахивать над ним руками, растирать ему плечо и делать какие-то странные телодвижения. Я вошла к Глендлу и спросила, что все это означает. Глендл объяснил, что таким образом нанкари (врач-абориген) готовит Эдди к предстоящему путешествию. Он сказал, что нанкари, может быть, сумеет извлечь из плеча Эдди камешек, загнанный туда кем-то из врагов. Через пять минут Эдди вернулся и показал мне извлеченный из плеча камешек.
Аборигены часто заболевают и даже умирают только от того, что им кажется, будто в них что-то загнали. Когда с аборигеном случается такая беда, он должен обратиться за помощью к нанкари. Это его единственная надежда на спасение.
И хотя я не в силах перепрыгнуть через барьер привычных понятий о возможном и невозможном, у меня нет ни малейших сомнений в том, что нанкари лечат своих соплеменников столь же успешно, как западные врачи - своих. Недаром белые медицинские работники с более широким кругозором трудятся сейчас рука об руку с нанкари и повивальными бабками, пытаясь справиться с заболеваниями и недугами, косящими аборигенов.
Бесконечные попытки снова и снова что-то проверить и последние предотъездные хлопоты, как всегда, довели меня до полного изнеможения, тем не менее стоило нам оказаться за пределами Пипальятжары, как уже через пять минут ритмичный шаг верблюдов, подбадривающий звук колокольчиков за спиной и сознание, что Эдди рядом, вернули мне душевное равновесие.
Мы остановились в Уинджелинне и потратили около часа на прощание с друзьями. А мне не терпелось тронуться в путь - как я ни старалась, я все еще не могла вырваться из тенет своих западных привычек. Наконец все необходимые слова были произнесены, и под полуденным солнцем мы зашагали по дороге. Но едва прошли около мили, как нас нагнала машина с какими-то юнцами, полчаса ушло на болтовню. Скорей, скорей, скорей! Опять тронулись, снова машина, и так без конца. К вечеру Эдди сказал, что ему нужно питури: аборигены жуют это растение, похожее на табак. Он указал на долину, разрезавшую гряду гор в одной-двух милях от дороги. И вот мы уже молча идем по безмолвной, пышно цветущей земле. Эдди собирает питури, я наблюдаю за ним. Смутное беспокойство и тревога, грызущие меня из-за исковерканного дня, постепенно стихают, и мы оба отдаемся поискам питури. Долина была такой красивой, такой молчаливой, что мы не проронили ни слова, пока с почтением ступали по ее земле. Увы, как только мы с ней расстались и вновь оказались под лучами кровожадного закатного солнца, сжигавшего мое лицо, хоть я и надвигала шляпу как можно ниже, раздражение вернулось. Меня раздирало двоякое отношение к времени, и, как я ни билась, как ни пыталась покончить с этим наваждением, все усилия оказывались тщетными. Я знала, на чьей стороне правда, но другая, неправая сторона отчаянно цеплялась за жизнь. Организованность, систематичность, аккуратность. Пустые, никому не нужные слова. "Боже правый, - твердила я себе, пытаясь распутать клубок собственных мыслей, - если так пойдет дальше, мне понадобится еще много месяцев, чтобы добраться до океана. Ну и что из этого? Будто я участвую в марафоне, в чем, собственно, дело? Эти дни, пока Эдди рядом, наверняка окажутся самыми лучшими за все путешествие, так растяни их, дура несчастная, растяни. Да... но... а как же намеченный график?" И так без конца.
Душевная смута не утихала весь день, но постепенно я успокоилась, потому что доверилась Эддиному представлению о днях и часах. Он научил меня отдаваться потоку времени и выбирать для каждого дела подходящую минуту - научил радоваться настоящему. И я подчинилась ему.
Через несколько дней я сделала заметные успехи в питджантджаре, хотя по-прежнему не понимала беглую речь. Как ни странно, это нисколько нам не мешало. Просто удивительно, как легко человеческие существа понимают друг друга, когда между ними не стоят слова. Нас объединяло наслаждение окружающим миром, и ничто не могло объединить нас теснее. Эдди учил меня подражать пению птиц, подолгу разглядывать холмы, мы вместе смеялись над гримасами верблюдов, вместе охотились, отыскивали съедобные травы и корешки. Иногда мы пели, вместе или поодиночке, иногда гоняли один и тот же камешек по дороге, мы не произносили никаких слов и прекрасно понимали друг друга. Эдди размахивал руками и спокойно беседовал сам с собой или разговаривал с холмами, растениями. Посторонние наверняка подумали бы, что мы оба сошли с ума.
В тот вечер мы свернули с дороги: Эдди решил показать мне свою страну. Неделю мы бродили по его земле, и с каждым шагом он вырастал в моих глазах. Род Эдди поклонялся собаке динго, и ощущение кровной связи с местами, по которым мы проходили, придавало Эдди какую-то особенную силу, переполняло радостью - он чувствовал себя частицей этой земли. По вечерам, когда мы разбивали лагерь, Эдди пересказывал мне древние мифы и предания. Он знал каждый бугорок этой земли как свои пять пальцев. Здесь он был дома, целиком и полностью дома, заодно с каждой травинкой этого просторного дома, и я постепенно заражалась его отношением к окружающему миру. Время перестало существовать, утратило смысл. Мне кажется, что за всю свою жизнь я никогда не чувствовала себя так хорошо, как тогда. Эдди научил меня различать звуки и следы на земле, не существовавшие прежде для моих глаз и ушей, и я вдруг поняла, какое единение царит на этой земле. Она перестала казаться мне дикой, я увидела прирученную землю, изобильную, приветливую и щедрую для всех, кто сумеет увидеть ее такой, как она есть, сумеет слить свою жизнь с ее жизнью. Многие белые, работавшие № Австралии, испытывали глубокое изумление, когда понимали, какое значение имеет для аборигенов земля, какое место она занимает в их жизни. В одном из писем Толи недавно писал: "Здешняя земля обладает особым могуществом, особой силой, эта ее особенность разными способами дает о себе знать в аборигенах и, как я чувствую, скажется на мне тоже. В ней постоянно видится что-то новое, она кажется неистощимой. А вот как ее использовать, каждый должен решить сам".
Я вспоминаю сейчас эти дни как время радостного покоя. Но их очертания размыты, все они будто слились в один. Разделить их я не могу. Я отчетливо помню какие-то происшествия, но не имею ни малейшего представления, когда и где они произошли. Конечно, я довольно скоро убедилась, что хитрецу Эдди легче пройти пятьдесят миль, чем мне десять. Когда я уставала, он давал мне пожевать питури; на вкус это нечто в высшей степени омерзительное, но действует поразительно: кажется, что пробежать тысячу ярдов - сущие пустяки. Эдди сжигал веточки каких-то кустарников, смешивал золу с питури и жевал, скатывая во рту шарик. Иногда он приклеивал этот шарик за ухом, оставляя его на потом, как жевательную резинку. По вечерам я предлагала ему вино, но он со смехом отказывался и изображал пьяного старика. Он говорил, что каждому нравится свое: мне - вино, ему - питури.
К моей великой радости, Эдди не пытался командовать верблюдами. Верблюды слушаются одного хозяина (или хозяйку) и не признают посторонних. Тем более что я обращалась с каждым из них, как с хрустальной вазой, недопустимо баловала их и тряслась над ними, а Эдди, конечно, никогда бы не стал относиться к ним с такой нежностью. Недаром за все время нашего путешествия я обиделась на Эдди единственный раз, когда ему захотелось проехать минут десять на верблюде, для чего я дважды приказала Бабу лечь - сначала, чтобы Эдди мог влезть на него, а потом, чтобы слезть, - и едва мы прошли пешком около мили, как эту процедуру пришлось повторить. Эдди, конечно, тоже обиделся: он совершенно не мог понять, зачем нужны верблюды, если на них никто не ездит, что было вполне разумно, за исключением того, что эти верблюды были вовсе не вьючными животными, а любимыми друзьями, во всяком случае для меня.
Вечером, пока я их развьючивала, Эдди строил временную уилчу - ограду для защиты от ветра. Делал он это быстро, с полным знанием дела и с минимальной затратой энергии. Мастерски - вот, наверное, самое подходящее слово. Он складывал старые деревья полукругом или в виде прямоугольника без четвертой стороны, расчищал место для сна от колючек и зажигал костер, чтобы ночью не мерзнуть. Сколько одеял я ему ни давала, он подкладывал их все под себя и никогда ничем не накрывался. Когда еда и разговоры подходили к концу, Эдди в полном смысле слова засовывал меня в спальный мешок и, удостоверившись, что мне удобно, сворачивался калачиком, клал руки под голову и засыпал. Ночью он несколько раз вставал, подходил посмотреть, сплю ли я, и подкладывал сучья в костер. Мы ели консервы, но я знала, что Эдди предпочел бы полусырую кенгурятину, испеченную в углях. Это лакомое блюдо готовят так: сначала опаливают и выщипывают шерсть, потом тушку на час зарывают в горячие угли, пересыпанные песком. Желудок и кишки остаются красными, напитанными кровью. Но мясо и потроха получаются необычайно сочными и вкусными. Однако убивать и готовить кенгуру можно, только строго соблюдая определенные правила, не распространяющиеся на остальных животных пустыни. Я слышала множество рассказов о том, как кто-то убил кенгуру недозволенным способом, и в наказание за этот тяжкий проступок на несчастного обрушились страшные беды.
У меня с собой было два ножа, одним я вырезала ремни, кожаные заплаты, другим свежевала кроликов и резала мясо. Однажды Эдди спросил, зачем мне два ножа, когда вполне достаточно одного. Я объяснила, что острый нож, тот, что я ношу за поясом, нужен мне для дичи.
- Кролик, кенгуру, - сказала я и показала, как режу мясо.
Со стариком чуть не сделался сердечный припадок, честное слово.
- Уийа, уийа, мулапа уийа. Тс, тс, тс, тс.
Эдди в ужасе тряс головой. Потом схватил меня за руку и с жаром принялся объяснять, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не должна разрезать мясо кенгуру, или сдирать с кенгуру шкуру, или брать кенгуру за хвост. Он повторял эти запреты снова и снова, и я поклялась, что буду свято их соблюдать. И все-таки вечером он опять заставил меня дать слово, что я ни под каким видом не нарушу священного закона. Я дала. Так или иначе, в отсутствие Эдди мне вряд ли пришло бы в голову убить кенгуру. У меня было вполне достаточно мяса для одного человека и одной собаки, и я любила этих прелестных животных. Они часто попадались нам в пути, ради Эдди я брала в руки ружье, но ни разу не попала ни в одного зверька. В отличие от кенгуру к кроликам я отношусь равнодушно. Их, как и мух, в Австралию завезли европейцы, и сейчас многие районы страны буквально опустошены этими чудовищно плодовитыми животными. На мой вкус крольчатина наименее съедобна из всего, что можно добыть в пустыне, тем не менее мы с Дигжити часто употребляли ее в пищу. Насколько я знала, никаких правил охоты на кроликов не существовало, так как в незапамятные времена кролики в Австралии еще не водились.
К сожалению, пришло время возвращаться на дорогу. Теперь нам встречались одна-две машины в день, обычно с аборигенами, навещавшими родных и близких в двух ближайших поселениях. Я с радостью познакомилась с оборотной (куда менее привычной) стороной медали. Когда проезжала машина с белыми, подозрительный Эдди незаметно брал в руки ружье - просто так, на всякий случай. Если в машине оказывались аборигены, тут же завязывался разговор, звенел смех, кто-то делился едой, кто-то предлагал табак или питури. Обычно мы заранее знали о приближении аборигенов, потому что их автомобили тарахтели и гремели, как испорченные стиральные машины. Широкая продажа вышедших из строя автомобилей по баснословным ценам - доходнейшее дело в Алис-Спрингсе, где аборигены только и могут купить машину. К счастью, у аборигенов золотые руки: с помощью обрывков веревки и кусков проволоки они умудряются как-то ездить в своих разбитых колымагах. В Докере мне рассказали про молодых людей, которые купили в Алисе машину, проехали миль четыреста и встали, так как кузов машины в буквальном смысле развалился на части. Их было десять человек, они вышли, связали кузов ремнями от брюк и благополучно добрались до дома.
Благодаря Эдди каждая встреча с аборигенами превращалась в праздник, будто у него в руках была волшебная палочка. Все аборигены знали Эдди, все любили его. А так как я была с Эдди, а со мной были верблюды, аборигены и ко мне относились с искренней симпатией. Однажды мы разбили лагерь по соседству с небольшой стоянкой, где рядом с артезианским колодцем жило, наверное, не больше двадцати аборигенов. Мы часами сидели около чьей-нибудь хижины, болтали, ели пресные лепешки и пили прохладный, очень сладкий чай. Аборигены - прямо из котелка, я, на правах гостя, - из жестяной кружки. В чае плавали куски теста, так как в этой же кружке размешивали муку с водой, когда готовили лепешки. Но меня это нисколько не смущало. Я уже научилась совершенно иначе относиться к тому, что ела или пила. Пищу, безразлично какую, кладут в рот, поскольку для ходьбы нужны силы, вот и все. Я могла есть, что угодно, и ела, что угодно. Заодно я перестала мыться ввиду явной бесполезности этой процедуры и потому источала зловоние, что меня ничуть не смущало. Даже Эдди, не отличавшийся чрезмерной чистоплотностью, как-то раз посоветовал мне вымыть лицо и руки. В чем я усмотрела излишнее чистоплюйство, и его нежелание пить из одной кружки с Дигжити я тоже воспринимала как чистоплюйство. Мы с наслаждением шли по дикой пустыне и без всякого удовольствия по дороге, где то и дело сталкивались со странными животными, именуемыми туристами. Однажды днем было особенно жарко, непереносимо, до одурения жарко, над головой вились мириады мух. После трех часов дня у меня, как обычно, начался приступ хандры, Эдди что-то напевал себе под нос. Внезапно на горизонте появился столб красной пыли и, крутясь, понесся прямо на нас со скоростью, явно говорившей, что движутся туристы. Мы свернули с дороги, решив, что в это время суток колючки под ногами лучше дураков под носом. Но они, конечно, заметили нас, они - это целая автоколонна смельчаков, героически отправившихся на завоевание необозримых безлюдных просторов точь-в-точь как во второсортном вестерне. Туристы высыпали из машин, защелкали фотоаппараты. Я была вне себя от ярости, мне хотелось поскорее разбить лагерь, выпить заветную чашку чая и отдохнуть, больше ничего. А эти грубияны, эти тупицы... Они, как обычно, засыпали меня вопросами и беззастенчиво обменивались нелестными замечаниями о моей внешности, будто я была занятным вставным номером в их развлекательной программе. Наверное, я в самом деле выглядела несколько необычно посреди пустыни. Год назад в Алис-Спрингсе я проколола мочку уха. Несколько месяцев я собиралась с духом, прежде чем подчинилась этому варварскому обычаю, но, раз уж дело сделано, мне не хотелось, чтобы дырочка заросла. Сережку я потеряла и носила в ухе большую английскую булавку. Мне давно следовало помыться, из-под моей шляпы выбивались космы грязных выгоревших волос, одним словом, я была похожа на персонаж, достойный кисти Ральфа Стэдмана*. А тут еще они увидели Эдди. Кто-то из туристов схватил его за руку, заставил встать, как ему хотелось, и гаркнул:
* (Ральф Стэдман (род. в 1936 г.) - современный английский художник, график и карикатурист.)
- Эй, мартышка, не отходи от верблюда, вот-вот, молодец, парень!
Я онемела от изумления, я не верила своим ушам.
Только круглый дурак мог обратиться к такому человеку, как Эдди, со словами "мартышка", "парень". Я в бешенстве оттолкнула этого идиота, и мы с Эдди зашагали прочь. Лицо Эдди оставалось бесстрастным, но он обрадовался, когда я сказала, что не позволю больше сделать ни одного снимка, не отвечу ни на один вопрос и пусть все туристы провалятся в тартарары. Через несколько минут подкатила последняя машина из автоколонны. Я прибегла к своему старому трюку: закрыла лицо шляпой и крикнула:
- Никаких снимков!
Эдди, как эхо, повторил мои слова. Но, миновав машину, я услышала щелканье фотоаппаратов.
- Негодяи проклятые! - закричала я.
Все клокотало у меня внутри, я кипела от ярости. Вдруг Эдди повернулся на сто восемьдесят градусов, вытянулся во весь свой крошечный рост и с важным видом зашагал к машине. Фотоаппараты щелкали, не переставая. Эдди остановился рядом с одной из женщин, и началось воистину невиданное представление. С великолепным мастерством пародиста Эдди изобразил буйного, воинственного, пустоголового дикаря: он размахивал палкой, тараторил на питджантджаре, требовал три доллара, хохотал, как безумный, прыгал и скакал, пока не нагнал на растерявшихся туристов такого страха, что они лишились остатков своих куриных мозгов. В Перте их, наверное, предупреждали, что черномазые обезьяны убивают белых. Пятясь задом, они отдали ему все деньги, какие нашли в карманах, и умчались прочь. Эдди с невинным видом подошел ко мне, и тогда нас будто прорвало. Мы хлопали друг друга по спине, упирали руки в бока и хохотали, хохотали, словно одержимые, хохотали до слез, как дети, и не могли остановиться. Нас не держали ноги, мы катались по земле. Смех оглушил, задавил нас.
Больше всего меня поразило, что Эдди не испытывал чувства горечи, хотя имел для этого все основания. Неожиданное происшествие дало ему повод позабавить себя, меня, и только. А может быть, он устроил это представление, чтобы преподать мне урок, не знаю. Так или иначе, я задумалась о судьбе Эдди. И о судьбе аборигенов. Я вспомнила, как аборигенов вырезали, уничтожали почти поголовно и принуждали жить в поселениях, больше всего походивших на концентрационные лагеря; как их бесцеремонно теребили, обмеривали и изучали; как снимали на цветную пленку священные церемонии и иллюстрировали этими фотографиями глубокомысленные научные статьи по этнографии; как выкрадывали и передавали в музеи священные реликвии и при каждом удобном случае калечили тела и души аборигенов; как почти каждый белый австралиец унижал этих непонятных ему "тварей" и как в конце концов аборигенам предоставили право гнить заживо и погибать от нашего дрянного вина и наших болезней - я вспомнила все это и посмотрела на удивительного полуслепого старого чудака, надрывавшегося от смеха, будто никогда в жизни он ничего подобного не испытал, будто невежественные фанатики никогда не оскорбляли его самолюбие унизительными, жестокими шутками, будто он прожил жизнь без забот и тревог, я посмотрела на него и подумала: ну что ж, Эдди, если ты можешь, я тоже смогу.
Мы почти дошли до Уорбертона. Я перестала пользоваться картами, так как со мной был Эдди и они стали не нужны. Но мне хотелось знать точно, сколько миль осталось до поселения, и я спросила у молодых аборигенов, проезжавших мимо, далеко ли до Уорбертона.
- Хм, хм... до Уорбертона дорога... она немного длинная. Может, одна ночевка, может, две, но немного длинная, это верно.
- Ага, поняла, спасибо, дорога немного длинная, говорите? Прекрасно. Я так и думала.
В зависимости от расстояния аборигены говорят про дорогу: немного, немного длинная; немного длинная; длинная; длинная, длинная; слишком длинная. Последнее определение относилось к моему путешествию. Когда аборигены слышали, что я хочу дойти до моря (до уру пулки, то есть до "большого озера"), которого никто из них в глаза не видел, они неизменно поднимали брови, медленно качали головами и говорили:
- Длинная, длинная, дли-и-и-и-нная дорога, много, много ночевок, слишком длинная дорога до этого уру пулки, поняла? Тс, тс, тс, тс.
Аборигены снова и снова качали головами, желали мне удачи или в изумлении таращили глаза, хватали Эдди за руку и заливались смехом.
Однажды вечером, когда Эдди был поглощен сооружением уилчи, я поднялась на дюну, громоздившуюся над нашей стоянкой, привязала Голиафа к дереву и вдруг увидела двух молодых людей на велосипедах. Они тоже увидели меня, подъехали и сели рядом. Я провела две недели с Эдди и стала за это время другим человеком. Мы объяснялись жестами или на питджантджаре, я вошла в иной мир, передо мной открылась иная вселенная. Вернуться снова к европейцам и покинуть мир аборигенов оказалось страшно трудно. Другой набор общепринятых понятий, и даже болтовня о пустяках требует других навыков. Мои заржавевшие мозги с трудом приспосабливались к новым обстоятельствам, но я все-таки не спасовала, и гости мне понравились. Между нами уже завязался почти нормальный разговор, как вдруг из-за холма появился Эдди: воинственный вид, подозрительный взгляд, в руке ружье. Он сел слева от меня, положил ружье на колени, уставился на молодых людей и спросил на питджантджаре, кто они такие и можно ли им доверять. Разыгралась комичная сцена. Я пыталась объяснить всем им (молодым людям было явно не по себе), что беспокоиться не о чем и никто не собирается ни в кого стрелять. Но безнадежно запуталась в двух языках: успокаивала велосипедистов на питджантджаре, а Эдди объясняла по-английски:
- Это хорошие люди, правда, хорошие, я хочу напоить их чаем. - Опомнившись, я торопливо переходила на питджантджару. Но Эдди оставался непреклонен и отвечал коротким: "Уийа".
Не нужно знать чужой язык, чтобы понять слово "нет", особенно если его произносит угрюмый старик с ружьем в руках. Мужчины боком, словно крабы, сползли с дюны и скрылись в темноте.
Так начался процесс десоциализации, или смены кожи - кожу ведь меняют не только змеи, - я чувствовала, как отмирают утратившие смысл обычаи и представления покинутого мной общества и на смену им приходят другие, более соответствующие новой среде обитания. Я обрадовалась, что гости ушли: вздумай они остаться, я оказалась бы в трудном положении, так как мне пришлось бы рассказывать о своем путешествии, заново овладевать искусством поддержания разговора, вспоминать обычные, почти забытые приемы общения с себе подобными - существами, которые, как пугливые животные, в растерянности жмутся друг к другу. Мне нравился и до сих пор нравится этот человек с новой кожей. Я считаю, что стала разумнее, уравновешеннее, здоровее, хотя другим, наверное, могло показаться, что я если не совсем сумасшедшая, то в лучшем случае сумасбродная, чудаковатая женщина, потерявшая голову от солнца и одичавшая в пустыне.
На следующий день мы разбили лагерь позднее обычного. Я расседлала верблюдов, и на несколько мгновений мое сердце остановилось, потом, наверстывая упущенное, заметалось в грудной клетке, как кенгуру. Ружье! Где мое ружье?
- Эдди, ты не брал ружье?
Нет, не брал. Я настолько привыкла к ружью, что не представляла, как можно без него обойтись. Мысленно я уже видела множество огромных диких верблюдов, они обступали меня со всех сторон. Эдди сказал, что останется в лагере, а я решила вернуться и поискать ружье. В то утро, не знаю почему, я привязала ружье к седлу Зелейки, совершенно к этому не приспособленному, и ружье выскользнуло из чехла. Я вновь взгромоздила седло на Баба и отправилась по собственным следам назад, на восток, где светлая голубизна уже гасила розовые блики. Я проехала, наверное, миль пять, ежеминутно ожидая, что Баб сбросит меня на землю и отправит на тот свет: он пугался скал, птиц, деревьев - этот дурачок боялся всего на свете. Я часто задумывалась об умственных способностях Баба.
Мимо проехала "тоёта" - Баб, разумеется, отскочил в сторону футов на шесть. В машине кроме незнакомого геолога оказались мой двуствольный "Саведж", несколько плиток шоколада и лимонад. Уж если везет, так везет. С небосвода на нас таращилась огромная луна, а я, бесстыдно чавкая и давясь от жадности вкуснейшим шоколадом, полчаса доказывала геологу, что не надо вести разработку урановых месторождений здесь, посреди богом забытой пустыни.
Бабби не терпелось вернуться в лагерь. Он припустил бегом, я не мешала ему. Хорошо же, простофиля несчастный, если у тебя так много сил, завтра понесешь половину груза Зелейки. Из трех моих взрослых верблюдов самым ненадежным оказался Бабби. Может быть, потому, что я плохо его обучала, или потому, что он был еще молод и легкомыслен, а может быть, глупость была заложена в его генах. Однажды он чуть не сбросил Эдди. Без всякой видимой причины Бабби вдруг начал вскидывать задние ноги, и, хотя я вела его в поводу, мне было нелегко с ним справиться. Эдди выдержал испытание с обезьяньей ловкостью. Я умирала со смеху. Но Эдди ни на минуту не потерял чувства собственного достоинства.
Меня часто спрашивали, почему я большую часть пути шла пешком. По трем причинам. Во-первых, из-за Баба. В любую минуту он мог сбросить меня на землю, а лежать со сломанной ногой и смотреть, как твои верблюды уносятся в облаке пыли неизвестно куда, не очень заманчивая перспектива, когда до ближайшего жилья миль триста. Я предпочла бы ехать на Дуки или Зелейке, но их седла годились только для поклажи. Во-вторых, я считала, что мои верблюды и так несут слишком много груза, и не хотела обременять их лишними ста двадцатью шестью фунтами, хотя понимала, что это дурацкое соображение. А третья причина заключалась в том, что ноги болели иногда очень сильно, но ягодицы еще сильнее.
Я вернулась в лагерь с победой. За несколько дней до этого я сказала Эдди, что в Уорбертоне его ждет ружье. С тех пор наши вечерние разговоры неизменно вертелись вокруг ружья. Правда ли я собираюсь подарить ему ружье, будет ли это точно такое же ружье, уверена ли я, что ружье предназначается ему, а не кому-то другому? Эдди задавал эти вопросы по сто раз, и, когда мне наконец удавалось рассеять его сомнения, разражался смехом. Так продолжалось из вечера в вечер. Я пыталась рассказать Эдди о Рике и "Джиогрэфик", но как сказать на питджантджаре "американский журнал"? Я побаивалась встречи с Риком. Я знала, что Эдди вряд ли поймет, зачем нужны Рику тысячи снимков. Знала, что ему это не понравится. Мне не хотелось ставить под удар дружбу со своим новым другом. А с другой стороны, хотелось вновь увидеть Рика. До Уорбертона было уже рукой подать.
В тот вечер Эдди был непривычно словоохотлив. Он рассказывал о земле, по которой мы шли, о местах, связанных с преданиями, легендами, перебирал события нашей жизни. Снова и снова вспоминал смешные случаи, объяснял, почему тогда-то мы поступили правильно, а тогда-то нет. Потом начался неизбежный разговор о ружье, о Рике, еще о чем-то. Потом наступила тишина. Я уже собралась ложиться спать, но Эдди вдруг снова усадил меня рядом с собой и показал маленький, обкатанный водой камешек.
Положил камешек мне на ладонь, сжал мои пальцы и разразился длинным монологом, смысл которого я уловила лишь частично. Насколько я поняла, камешек должен был спасти меня от гибели или что-то в этом духе. Я спрятала его в надежное место. Тогда Эдди дал мне обломок железной руды. Я не представляла, что означает этот подарок, но Эдди почти ничего о нем не сказал. Наконец мы легли спать.
Еще одну ночь мы провели вместе - последнюю. Эдди твердил, что непременно найдет в Уорбертоне надежного старика и он проводит меня до стоянки в Карнеги. По словам Эдди, в провожатые годился только пожилой человек, старик - уати пулка (дословно - "большой человек") с длинной седой бородой, но никак не молодой мужчина. О молодом не может быть и речи. Я колебалась. Эдди был прекрасным спутником, но после Уорбертона начиналась совершенно дикая пустыня, и я хотела пройти эту часть пути одна, чтобы проверить, чего стоит моя вновь обретенная уверенность. Четыреста миль заросшей спинифексом пустыни Гибсона без капли воды, насколько я знала. А как мой провожатый вернется в Уорбертон? С Эдди все было просто: за ним приедет Глендл. Впрочем, Эдди добрался бы до дома и без Глендла, так как его сородичи часто ездили из Пипальятжары в Уорбертон и обратно; любой из них захватил бы Эдди. Но Уорбертон был последним поселением аборигенов, а в Карнеги жили белые скотоводы. Поэтому я решила отказаться от предложения Эдди. Эдди, хотя и с явной неохотой, согласился.
Ричард добрался до нашей стоянки около трех часов ночи. Понятия не имею, как ему удалось нас разыскать. Он принадлежит к завидной породе людей, которым всегда везет. Каким-то образом он неизменно ухитрялся меня находить благодаря стечению самых невероятных обстоятельств. На этом построена вся его жизнь. Множество случайных совпадений, которые выручают его, опровергая все законы статистики. Рик просидел за рулем двое суток, не спал ни минуты и был полон энергии и энтузиазма. Таким он бывал при каждом своем появлении. Естественное следствие шока, вызванного резкой сменой обстановки: срочно подготовив снимок для обложки очередного номера журнала "Тайм", он очутился среди безмолвной пустыни; любой человек на его месте потерял бы голову. Через день Рик обычно приходил в себя. Он привез почту для меня и ружье для Эдди. Мы болтали и смеялись, но Эдди явно хотел спать и не очень понимал, что означает это ночное веселье. С подарками мы решили подождать до утра.
На следующий день все проснулись рано. И получилось что-то вроде рождественского утра. Эдди не мог нарадоваться ружью. Я лихорадочно читала письма друзей. Рик щелкал фотоаппаратом. Я старательно подготавливала Эдди к появлению энергичного фотографа. Но пережить такое? Рик садился на землю, вставал на колени, ползал на четвереньках, ложился на живот - щелк, щелк, щелк. Эдди взглянул на меня и почесал в затылке:
- Кто такой? Что надо? Зачем столько снимков?
Я попыталась объяснить Эдди, чем занимается Рик, но мне в сущности нечего было ему сказать. Словами тут не поможешь.
- Довольно, Рик, хватит!
В ответ Рик вытащил другую камеру.
- Послушай, есть прекрасный выход.
В руках у него был "Полароид" с моментальной съемкой. Он сфотографировал Эдди и тут же вручил ему карточку.
Я вышла из себя.
- Ну конечно, "бусы для коренного населения". Знаешь, Рик, Эдди не любит, когда его фотографируют, прекрати немедленно.
Я была не права. Рик не хотел обидеть Эдди, и я зря на него набросилась.
- Я захватил "Полароид" только потому, - сказал Рик, - что фотографы всегда обещают прислать снимки, но никогда не присылают. И потом, сама видишь: я фотографирую, Эдди получает снимок - товарообмен.
Я боялась, что Эдди почувствует подвох. И не ошиблась. Эдди не нравился Рик, Эдди не нравилось, что его фотографируют, Эдди решительно не понравился бесполезный клочок бумаги с изображением его лица - он расценил его как подкуп. Тучи сгущались.
Рик уехал мили на две вперед по дороге, а мы с Эдди молча сняли лагерь. Уже в пути Эдди снова спросил, зачем нужны все эти снимки, я снова попыталась ему объяснить. Безуспешно. Случилось то, чего я так опасалась, я ничего не могла с этим поделать.
Мы шли вместе по дороге. Вдали показалась машина, на ее крыше стоял Рик, длинный объектив казался наростом на его глазу. Я решила дать Эдди возможность поступить по своему усмотрению. Когда мы подошли поближе, он поднял руку и сказал по-английски:
- Не снимать, - а потом добавил на питджантджаре: - Очень не люблю.
Я рассмеялась. Рик воспользовался моментом, щелкнул и опустил камеру. Когда много времени спустя пленка была проявлена и отпечатана, на слайде оказалась запечатленной прекрасная сцена: старик абориген, подняв руку, радостно приветствует улыбающуюся женщину. Вот что значит всевидящее око объектива. Один такой слайд говорит достаточно много. Вернее, лжет достаточно красноречиво. В нем отражена самая суть снимков, сделанных Риком во время путешествия, и, когда бы я теперь ни взглянула на этот слайд, все снимки Ричарда оживают у меня в памяти. Блистательные, превосходные, по-настоящему волнующие, они в сущности не имеют ничего общего с действительностью. Они мне нравятся, но рассказывают они о путешествии Рика, а не о моем. Боюсь, дорогой Ричард никогда этого не поймет.
Уже потом в Уорбертоне Глендл спросил Эдди, что он собирается делать со своей фотографией.
- Сожгу, наверное, - беззаботно ответил Эдди.
Мы с Глендлом только хмыкнули.
И все-таки я несправедлива к Ричарду. Добродушный по характеру, он изо всех сил старался не мешать. Ничего не требовал, ничего не навязывал, как принято среди фотографов. Он действительно не мог понять, почему аборигены так болезненно реагируют на фотоаппарат, но это в конце концов естественно. Он ведь никогда не жил среди аборигенов, а сколько раз он чувствовал себя отвергнутым, раздавленным неудачами и с честью выдерживал это испытание. С любыми трудностями Рик справлялся куда более умело, чем можно было ожидать.
Уорбертон оказался отвратительной дырой. После великолепия пустыни и очарования крошечных поселений Уорбертон поразил меня своим жалким видом. Все деревья в округе были спилены на дрова. По соседству с водопоем скот съел все до последней травинки, поэтому то тут, то там вздымались удушающие облака пыли. Хотя стояла середина зимы, мухи облепляли каждый дюйм тела. И посреди всего этого убожества, в окружении навесов и жалких хижин аборигенов, теснились на холме постройки белых, обнесенные (очевидно, на случай нападения аборигенов) высоченными заборами с колючей проволокой. Но здесь тоже были дети, как всегда непоседливые и любознательные, и в отличие от взрослых они радовались, когда их фотографировали. Ричард раздавал десятки снимков.
Несмотря на гнетущую тоску, царившую в Уорбертоне, мое пребывание в этом унылом месте превратилось в сплошной праздник. Я радовалась приезду Глендла, обществу местного школьного учителя, Рика. Эдди то и дело уводил меня на стоянку аборигенов, знакомил со своими друзьями и родственниками, и тогда время переставало существовать: часами мы сидели в пыли и говорили о путешествии, о местах, где мне предстоит побывать, о том, как хорошо было идти вместе с Эдди, и, конечно, о верблюдах, о верблюдах и о верблюдах. Кто-то из стариков спросил меня, спала ли я с Эдди. На мгновение я остолбенела, а потом сообразила, что он вкладывает в эти слова совсем иной смысл. Если два человека спят в одной уилче, между ними, как считают аборигены, непременно возникает чувство дружбы, чувство единения. В чем, в чем, а в здравом смысле аборигенам не откажешь.
Когда пришло время уезжать, Эдди искоса взглянул на меня, сжал мою руку, улыбнулся и потряс головой. Завернул ружье в рубашку, положил сзади себя, передумал, положил спереди, потом снова передумал и осторожно положил ружье сзади. Помахал рукой из окна машины, и вот уже Глендл, Эдди и друг Глендла - Уала Карнка (Быстрокрылая Ворона) исчезли в облаке пыли.
Всю неделю в Уорбертоне я чувствовала себя счастливейшей из смертных. Состояние, прежде мне совершенно незнакомое. Во время этого путешествия меня преследовало так много неудач, столько досадных мелочей не давали мне поднять голову, такой большой кусок моей жизни до путешествия был отравлен скукой и предопределенностью каждого шага, что теперь, когда счастье, словно птица, пело у меня в груди, я буквально плыла по воздуху. Счастье окутывало меня, как облако. Я одаривала им всех и каждого. Раздавала горстями и не беднела, только становилась еще счастливее. Хотя все, что происходило в последние пять месяцев, происходило совсем не так, как я себе представляла. Не соответствовало моим планам, не оправдало моих ожиданий. Ни разу я не сказала себе: "Да, все это я затеяла ради такого вот дня" или: "Да, вот к этому я стремилась". На самом деле большую часть моего времени поглощала однообразная утомительная работа.
Но когда проходишь, едва не падая от усталости, двадцать миль в день и делаешь это день за днем, месяц за месяцем, начинают происходить странные вещи. Правда, осознаешь их только потом, оглядываясь назад. Прежде всего я вспомнила в мельчайших подробностях и с необычайной яркостью всю свою жизнь до путешествия и всех людей из этой моей прошлой жизни. Каждое слово из разговоров своих и случайно услышанных давным-давно, еще в раннем детстве; это дало мне возможность по-новому оценить свое прошлое с такой искренней, с такой полной самоустраненностью, будто речь шла не обо мне, а о ком-то другом. Я заново открыла для себя и заново узнала людей, давно умерших и забытых. Я раскопала целый пласт воспоминаний, о существовании которых даже не подозревала. Люди, лица, имена, места, где я бывала, ощущения, обрывки каких-то сведений - все это ждало внимательного разбора. Происходила генеральная уборка мозга, освобождение от скопившегося мусора, загромождавшего мою голову, - постепенный катарсис*. Наверное, благодаря этой гигантской работе я сумела глубже понять свои отношения с другими людьми и с самой собой. И я была счастлива, другого слова не найти.
* (Катарсис (греч.) - очищение, термин древнегреческой философии и эстетики для обозначения сущности эстетического переживания.)
Ричард объяснял все происходящее со мной волшебством. Я смеялась и дразнила его за такие подозрительные речи. Но мое перерождение ошеломило его. Я вспоминаю сейчас это время с пытливым недоверием. Но тогда мы с Ричардом действительно разговаривали на языке черной магии. Судьба. Втайне друг от друга мы оба верили в существование некой потусторонней силы, соприкосновение с которой доступно тем, кто угадает ее веления. О, господи.
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'