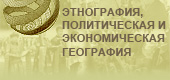
Пребывание в Ляк-Гарри
Утром на другой день благодаря любезности хозяев я мог сразу приняться за работу, которая была целью моей поездки.
Мы с Пьером отправились в местечко, известное здесь под названием Талпанина, милях в четырех от станции. Пьер сходил за лошадью, которая паслась для скорой поимки ее в малом паддоке, и запряг ее в высокий тарантас, кабриолет, на котором мы приехали из Херготта: для недалекой поездки его поломка не играла большой роли, и в случае беды мы были, так сказать, дома. Слегка оправившийся и опухший Дженкинс, накормив нас предварительно завтраком, положил нам на дорогу все припасы: порох, дробь и пистоны (у Пьера ружье шомпольное дульное), а также хлеб и чай.
Из ограды двора мы выехали в большой паддок и поехали прямиком по местности, которую я с успехом назову пустыней, несмотря на траву, довольно часто, но очень низко покрывавшую почву. Трава эта была разных сортов и, между прочим, очень жирная, хрустевшая и щелкавшая от раздавливания под ногами, полная влаги, обильно напоенная утренней росой.
В ряде мест почва была песчаная, в некоторых мелкокаменистая. Мы направились прямо к Талпанине, оазису здешних мест, обозначавшемуся на горизонте кущей деревьев и зеленью. Через полчаса мы были уже на месте.
Это было нечто среднее между озером и криком. Русло, полное воды, по своей удлиненности и извилистости имело вид реки, но вода была стоячая. Благодаря глубине вся вода не иссякала и не испарялась летом, если только засуха не продолжалась два года подряд. Вода была желтая от постоянно сносимого в нее ветром песка с берегов и окрестностей. Часть берегов осенялась довольно высокими эвкалиптами, но чаще поблизости росли деревья мульги, много ниже и не такие густые. Деревья эти еще отличались своим кустарным видом (вроде нашего ветельника) благодаря нескольким стволам, выраставшим кучкой, или благодаря тому, что единственный ствол у корня или невысоко от него ветвился.
К самой реке мы не подъехали, а остановились поблизости среди сплошной травы, хорошего корма для нашей лошади. Распрягши и пустив ее на полную свободу (Пьер доверял ее кроткому нраву), мы с ружьем, фотоаппаратом и орудиями для коллекционирования отправились в русло и пошли его правым берегом.
Первое, что мы встретили живого, была стая серо-красных попугаев, слетевших с дерева и усевшихся на землю. Пьер сделал по ним выстрел, но ружье дало осечку, и стайка улетела. В ближайшем дереве мульге под корой попробовали поискать ящериц и сразу нашли пару, которая мигом и очутилась в моей банке со спиртом. После этого с неодинаковым успехом сделали еще несколько выстрелов и убили четыре пичуги трех видов, которые я препарировал по возвращении. Поиски за ящерицами также были успешны, и я наспиртовал их с десяток.
Русло Талпанины было извилисто и ветвисто, и мы несколько раз переходили через его разветвления, иногда по щиколотку увязая в тинистой почве. Перейдя русло, мы другой стороной пошли к нашему бивуаку, но вдруг Пьер заметил, что лошадь, которой он так доверял, ушла к другим свободно пасшимся лошадям. За неимением веревки для поимки Пьер взял мои ремни, я же со своей амуницей, включая ружье, пошел прямо к месту нашей стоянки, где и принялся готовить чай. Выбрав дерево потенистее, я развел из сухих сучьев мульги и эвкалиптовых листьев маленький костер и вскипятил на нем воду.
Вдали виднелся Пьер, шагавший к удалявшимся лошадям. Мне пришлось прождать-таки его около часа, так как лошадей он так и не догнал и вынужден был, оседлав другую, подогнать первую к Талпанине. Таким образом, мы вместо одной лошади имели теперь две. Вторую, очень бойкую, Пьер привязал веревкой к дереву, и мы стали только теперь пить чай. Спутав первую лошадь, мы ее пустили пастись, так как она приустала, да, кроме того, поблизости стояла на привязи другая лошадь. После чая отправились доканчивать нашу экскурсию и наловили снова ящериц. Но мытарствам нашим не суждено было окончиться одним приключением: оседланная лошадь оторвалась и ушла вместе с седлом и поводьями. Ничего другого не оставалось, как запрячь старую лошадь и возвращаться домой, чтобы поутру как-нибудь словить оседланную с слабой надеждой на целость на ней седла, если она за ночь вздумает поваляться.
Солнце быстро садилось. Той же дорогой с настроением, испорченным происшествиями, мы поехали по направлению к артезианской станции. Случилось, однако, нечто уже совершенно неожиданное. Освободившаяся лошадь прискакала к другим пасшимся лошадям. Те обнюхали ее и вдруг пустились полным галопом за нами. Увидя это, Пьер высказал некоторую надежду, что это обстоятельство облегчит поимку беглянки утром, так как лошади, пожалуй, не уйдут далеко от малого паддока. Но судьбе угодно было одарить его уже совсем неожиданным и весьма благоприятным концом.
Все одиннадцать лошадей с оседланной в арьергарде помчались вдоль ограды к малому паддоку, к входу в который мы только что подъехали. Пьер решился на хитрость. Он отворил ворота паддока и, спрятавшись за ними, решил затворить их тотчас за лошадьми. Все вышло как по писанному. Через десять минут лошади были уже в загоне и, следовательно, в наших руках. Мы быстро вернулись домой, где Пьер сейчас же обсудил положение и оседлал нашу упряжную лошадь. Сев на нее верхом, он отправился загонять табун в небольшую, прочно слаженную карду (Карда - заросли колючих растений (от репей, karduus). В промышленности - щетка из стальных игл и скобок для прочеса хлопка, шерсти).
Спустя полчаса оседланная лошадь была поймана в этой загородке. Радуясь благополучному концу, мы славно подкрепили свои силы недурным рагу из соленого мяса, приготовленным вполне оправившимся Дженкинсом, который в трезвом виде оказался пресимпатичнейшим субъектом и притом прекрасным, а главное любящим помощником Пьеру. Глядя на него, Пьер ликовал и с особенным удовольствием расхваливал своего «друга Дженкинса», которого накануне твердо высказывался рассчитать. Я окончил день набивкой птиц и проявлением фотографий, из которых некоторые удались очень недурно.
Ночь накануне была очень холодная, и под утро я порядком прозяб. Зато встал в 7 часов утра. Быстро согрели воду и напились кофе. В этот раз ночь была нехолодна, но был сильный ветер, принесший маленький дождь, отраду здешних мест. Я спал хорошо, укрывшись матрацем-периной, и на этот раз уже не прозяб, хотя в течение ночи и вынужден был несколько раз поправлять свое покрывало и постилку.
Наутро новая экскурсия, в ту же Талпанину, но с более обильными запасами. Минуя дорогу, мы поехали в Херготт, в кустарную, но безводную местность искать птиц. Отъехав миль пять по каменистой и песчаной дороге мимо зарослей более свежей травы, остановились на зеленевшей лужайке, радея о корме для нашей лошади. На этот раз ей надеты были захваченные путы. Покинув повозку, мы отправились в путь, захватив парусинный (брезентовый) мешок с водой, который скоро перешел на мои плечи: несмотря на свою силу и ловкость, Пьер оказался непривычным носить тяжести через плечо.
Проходимая нами местность была довольно разнообразна: то это была равнина, усыпанная довольно правильно редкими кустиками, невысокой пухлой травой, кустарником серого цвета, то порослью солончаковой травы, то кущами мульги, среди которых изредка шмыгали небольшие птахи, удачно избегавшие и нас и наших выстрелов.
Иногда мы шли по каменистому грунту черно-бурого щебня, окатанного песком и ветром и расколотого инсоляцией. Среди этого камня, идти по которому было очень неудобно, встречались куски гипса и какой-то сильно спекшейся породы.
В одном месте прошли по настоящим дюнам, закрепленным уже растительностью, а в другом забрались на холм, бок которого, ошмыганный ветром, состоял словно из сложенных глыб какого-то гранитоподобного камня, беловатого, с красными прожилками и круглыми белыми внедрениями, проникающими внутрь породы. Как этот, так и другие холмы были покрыты деревьями мульги, где мы опять тщетно старались раздобыть нужных мне птиц, но где добыли несколько насекомых.
Всюду попадались следы птиц и зверей, и норы кроликов, и следы кенгуру и динго. В одном месте следы были чрезвычайно миниатюрные. Следуя за ними, я шел в гору и под гору, они меня приводили к крупным камням, трещинам и норам, но в конце концов затерялись в недоступной для исследования трещине. Я могу приписать эти следы совсем молодому кролику, но очень в этом неуверен: слишком они были малы.
Пройдя в таких поисках и исследованиях миль пять, мы повернули назад и, руководствуясь холмами вдали, благополучно отыскали сначала приметную мульгу, а затем и лужайку с повозкой и лошадью. На эти пять миль у нас ушел час времени и столько же на обратный путь к повозке. На нашей лужайке моей зоологической добычей сделалась пара славных местных канареек.
Холодное мясо, кекс и «желе» (варенье) помогли нам восстановить наши, впрочем, далеко не пошатнувшиеся силы. Затем по старому следу, который не скоро пропадает в здешних местах, через три четверти часа хорошего бега отдохнувшей лошади мы были уже дома. Подъезжая к жилью Пьера, издали увидели приближающегося почтового «коча». Коч ехал рейсом назад в Херготт, и я отправил с ним подаренные мне Пьером бумеранги и палку. Дженкинс встретил нас готовым обедом из вареного мяса с картофелем, но с аппетитом мы поели это много позднее. Я снял шкурки, проявил удавшиеся негативы и, написав эти строки, в 10 часов вечера отправился спать.
25 июля был последним днем моего пребывания в Ляк-Гарри. В этот день мы с Пьером пошли к Талпанине пешком в чаянии раздобыть побольше птиц, но добыли всего три экземпляра, из которых красноперая и зеленая птички были для меня новыми. Всего в этом оазисе я встретил около десяти видов птиц. Я обратил внимание на правильные куполы кустарника, покрывавшего песчаные холмы сажени полторы в диаметре. Очень жалел, что не захватил фотографического аппарата, чтобы снять павшую овцу, картина весьма обычная и характерная для здешних мест.
Обойдя все разветвления, вернулись домой, потратив на путь в оба конца около двух часов, не считая самой экскурсии у озера. Дома застали Дженкинса за работой: он катал тесто с изюмом и готовил хлеба, которые пек в больших жестяных сосудах из-под консервов. Эти хлеба его были очень вкусны, особенно оттого, что Дженкинс прибавлял на каждый хлеб две ложки муки «baking powders» (Мука «baking powders» - порошок, добавляемый в тесто вместо дрожжей).
Отдохнув, отпечатал Дженкинсу два снимка на память и ходил снимать обрыв холма, жирную траву и общий вид пустыни с холма. Пытался сфотографировать труп павшего от засухи животного, но подходящего типичного поблизости не нашел. Вернувшись, сделал снимок с табуна, пригнанного на водопой черным пастухом, но, кажется, неудачно. Пастухи из цивилизованных туземцев - явление здесь обычное.
Сняв с птиц шкурки, проявил фотографии и начал все подготовлять к дальнейшему движению в пустыню по направлению к Киллалпанине.
Вечером толковал с Дженкинсом о коренных австралийцах. Он рассказывал о том, как происходили первые встречи и столкновения с ними, как один белый конокрад изобрел «способ кругов», чтобы подкарауливать туземцев. Пьер толковал о пустынности здешнего края и об улучшении природы далее к северу, что впоследствии и подтвердил пастор Стрэлло из Макдональдовых гор в 80 милях от Алис-Спрингс к западу, где всюду кустовая и древесная растительность красит холмы и горы, где всегда есть вода, где живет крот песчаный (Notoryctes).
26 июля в 11 часов подъехал коч, и мы поспешили перенести к нему мои вещи. Меня посадили сзади и лицом тоже назад. Поэтому приходилось все время быть настороже, чтобы не свалиться. Соседом моим был некий Гарри. Вскоре мы с ним уже оживленно беседовали. Английским он владел лучше меня. Толковали о трэкерах, причем себя он считал плохим трэкером. Его родные все перемерли, и он чуть не всплакнул, когда я спросил, жалеет ли он об этом; мне даже пришлось переменить с ним разговор. Физиономия его благодаря выступающим надбровным дугам была удивительно некрасива, но с фасу он выглядел предобродушным субъектом, особенно когда хихикал. Он курил из хорошей трубки, набивал трубку своему патрону, кочу, и когда натирал для этого табак, то показывал свои ладони, которые много светлее остальной кожи. Говорили и о бумерангах, причем его зоркий глаз увидел даже на пути в кустах чей-то старый брошенный бумеранг, сделанный из плохого дерева бокс-три. Этот бумеранг все-таки пошел в мою коллекцию.
Иногда Гарри соскакивал с экипажа, чтобы с разрешения коча откопать мне ящерицу, но это было безуспешно. Ему приходилось слезать также на тяжелых местах пути для облегчения повозки и на въездах и выездах паддоков, чтобы отворить или затворить ворота. Приближение к таким паддокам он угадывал, несмотря на то, что сидел задом к лошадям.
Другими спутниками моими были симпатичный субъект, ехавший что-то инспектировать, и веселая хохотушка барыня в очках и с бородавкой у носа, волосами своими напоминавшая туземок. Она ехала очень далеко (семь дней пути почтового коча), к своему мужу. Всю дорогу коч наш Вильям Джемс и инспектор любезничали с ней, что, между прочим, отзывалось и на скорости нашего передвижения. Коч, молодой еще человек, лет 30 на вид, как-то оригинально хрипло погонял своих лошадей, зовя их юношами и девицами («почтенный юноша» и «почтенная девица» - титулы вроде наших Васек и Машек по адресу кошек). Он ловко подхлестывал передних, щелкая бичом, но иной раз спускал и волочил его сбоку экипажа.
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'