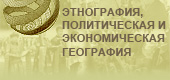
Кэрнс
Кэрнс сильно красят горы. Того «тропического» ландшафта, которого ожидал, я здесь не встретил. Правда, виднелись пальмы, но больше посаженные. Меня окликнул кеб, предлагая услуги. Я живо собрался и при помощи лакея и кебмена установил свои вещи на двухместный «дилижанс». Ровно через 3 минуты езды прибыл в Федеральную гостиницу Джемса Уоттерса, моего спутника по железной дороге. Свободной комнаты, однако, не было, и вещи простояли до 5 часов на веранде. Я же отправился с рекомендательным письмом за спиртом к коммерсанту Корнвеллю, торгующему здесь чашками, утварью, письменными принадлежностями, игрушками и пр. в гостином дворе «Рэд-Аркад».
Впрочем, спирта у него не оказалось. Он принял меня любезно и пригласил обедать. До 6 часов я успел купить у друга Корнвелля фотографические принадлежности, осмотреть его продающуюся коллекцию местных редкостей по быту туземцев и прогуляться по городу. На улицах города с удивлением увидел пасущуюся лошадь, курицу с цыплятами и коз, на которых здесь ездят верхом и в колясках. Прошелся и по китайскому кварталу, в котором, между прочим, помещаются и два китайских храма. В лавках китайцев продавалась посуда, трубки и овощи.
Вечером с хозяином ходил смотреть маленький завод искусственного льда. Хозяин завел его в сообществе с молодым инженером-датчанином. Инженер и сам на нем работает как рабочий и сам отвозит на железную дорогу заказные плитки льда. Он показал мне бак, где в 15 часов приготовляется полтонны льда плитами, ценой по 2 шиллинга. Чтобы вынуть их из металлического резервуара, последний погружают в бочку с водой. После этого вынутый кусок завертывается от руки в бумагу и укладывается в ящик со слоем опилок. На вид лед неважный, но приготовляется из фильтрованной воды и даже, кажется, дистиллированной. Охлаждение производится испарением углекислого аммония, покупаемого в Сиднее. Дров жжется много, воды, накачиваемой из особого колодца, потребляется тоже. Тонна льда продается по 8 фунтов. На лошадей в Кэрнсе для защиты их от солнца надевают козырьки, встреченные мною впервые. Местных черных здесь изучать путешественнику трудно, так как их можно спутать с канаками- рабочими полинезийцами, приезжающими для работ на сахарных плантациях. Эти канаки наезжают с островов Соломоновых, Ново-Шетландских и др. Канаки работают успешно, аборигены же предпочитают получать правительственную помощь.
В 6 часов обедал у Корнвелля. Корнвелль показывал мне свою коллекцию птичьих яиц, причем продал за полтора фунта кладку казуара квинслендского и два яйца кустовых кур - таллегалы и мегаподиуса. Кроме этого, он дал мне несколько насекомых и три цикады. Живет Корнвелль с женой и дочкой.
На другой день в 6.20 утра отправился в Кюранду. Сначала поезд шел довольно быстро, но останавливался раза три на каких-то мелких станциях, где мой дорожный сосед купил бананов.
Вначале путь шел долиной предгорий, покрытых лесом. Долина эта имела иногда вид сухого болота. Очень скоро, однако, стали попадаться холмы. Вагон II класса, в котором я ехал, был с деревянными сиденьями и без удобств, которых я, впрочем, не заметил и в I классе. После первой остановки видел сахарные плантации и культуру бананов. В 7 с четвертью вступили в горы, где поезд пошел медленнее, так как зачастили откосы и туннели. Виды очень красивы: то пади, то даль на берег и море, то скалы. Текучей воды мало, и только у Кюранды встретили три водопада: первый - маленький, второй - большой и третий - величественный. Это был Баррон-фолл на реке того же имени - австралийская Ниагара. Говорят - и фотографии то доказывают,- что в полую воду (периода дождей) он по высоте, силе и массе воды на него походит. Впрочем, австралийцы и Муррей зовут Волгой...
Много логов, по которым в пору дождей текут потоки, и тогда пейзажи должны быть еще красивее. Приятно смотреть на изгибы дороги, когда видишь тот отрезок пути, по которому сейчас пронесется поезд. Я насчитал 15 туннелей. Последний самый длинный. Останавливаясь, паровоз пыхтел, словно отдыхая. Ближе к Кюранде поезд пошел берегом длинной долины реки Баррон.
В 8.20 прибыл в Кюранду, где меня встретил господии Эльгнер, немец-коллектор, которому я писал накануне. Это настоящий бушмен. Мы сначала прошли в отель, где съели по блюду мясного, выпили пива и закусили бананами. Затем прошли в обитель Эльгнера, небольшой домик, принадлежащий разъездному правительственному агенту. Домик этот стоит на холме, имеет пол-акра земли и огорожен проволочкой. В нем всего две комнаты. Первая имеет за перегородкой две железные кровати с мешками вместо тюфяков. Вторая комната у Эльгнера играла роль кладовой. В ней несколько полок с защитой от термитов и крыс. Эльгнер живет более чем скромно, иногда питаясь одним сладким картофелем и хлебом. В сахаре и чае иной раз себе отказывает.
В этот же день мы отправились на экскурсию за птицами и гадами, но добыли очень и очень мало. Ходили мы и по дорогам, и в буш, где Эльгнер мне показал игралище птиц игрунков. Пробираться через буш трудно. Почва усеяна листвой и мало травяниста. Птицы оглашают лес криками, но увидеть их очень трудно. В просветах между кронами летают красивые, иногда крупные бабочки. На своем пути мы переворачивали павшие стволы, камни, кору и коллекционировали насекомых. Вернувшись к вечеру, мы с аппетитом поужинали. Я очень устал благодаря костюму не по климату и биноклю с фотографическим аппаратом (место игры птиц я снял). На другой день в 8 часов отправились за бабочками, но наловили их немного, Эльгнер пуделял по птицам и убил только одну. Ходили больше по дорогам и мало в буше. Вернулись к 1 часу, потеряв собаку. Эльгнер отправился ее отыскивать, а я остался хозяйничать и препарировать птиц. Эльгнер вернулся ни с чем, и мы отправились вдвоем. Собака, наконец, выбежала из буша. По дороге домой убили голубого попугая. Ужинали домашней стряпней. Вечером с Эльгнером пошли на утконосов.
Орниторинх (утконос) живет здесь по заводям криков и заводям реки Баррон. Река эта очень красива, имеет несколько порогов, усыпанных местами по дну и берегам омытыми синеватыми глыбами. Мы перебрались вброд и долго ходили по песку и камням, но, увы, утконосов не увидали. Решили пойти на них с восходом солнца. Предыдущая ночь была теплая, эта же очень холодная, и я плохо спал.
Утром (20 сентября) Эльгнер меня разбудил, и так как было холодно, мы оделись по-городскому. Спустились к реке и с вчерашним успехом прошли три заводи. У последней кормили угря мухами: он лежал под камнем и каждый раз схватывал брошенную ему в воду добычу. Поймали быструю ящерицу, которая каким-то чудом выбралась из платка, в который я ее завязал. В одиннадцатом часу вернулись, напились чаю и поели. После завтрака Эльгнер принялся хозяйничать, а я, несмотря на воскресенье, препарировал птиц. Эльгнер по делам ходил в «город». Вернувшись, он накормил молодого казуаренка и какую-то гусеницу. Казуаренок был пойман им дня четыре назад. Про утконоса узнал от Эльгнера мало. Сказал, между прочим, что его знакомый был им ужален (шпорой на задней ноге), следствием чего была лихорадка - жар, озноб, рвота. Про ехидну сказал, что их находят при помощи собак, а так очень трудно; их берут за задние ноги, и тогда они беспомощны, не могут уже свернуться. Они очень сильны.
Вечером у Эльгнера болела голова, но, несмотря на это, он все делал что нужно и кончил день набивкой патронов и печением хлеба. Прибежала собака, принадлежащая одному канаке, с которой Эльгнер хаживал на охоту за кустовыми курами - тэркей. Собака, находя их, вылаивала птицу, обыкновенно садившуюся на ближайшее дерево, пока не подходил Эльгнер и не убивал курицу. Завтра пойдем на такую охоту. Вечером над домом кто-то прокричал: то пронеслась летучая лиса. Сегодня нас навестили канак, владелец одного из здешних участков, и китаец-торговец. Последний меня удивил тем, что на мой вопрос о родине сказал, что не желает в нее возвращаться. Для китайца это странно.
Сегодняшний день ознаменовался охотой на талегалл (тэркей, кустовая курица). Мы прошли с Эльгнером миль пять по дороге, все в гору. По обе стороны шел лес с бушем, а в перспективе рисовались лесистые горы. Пейзаж довольно живописный. Но вот когда мы вошли в самый лес, тропики себя показали. Путь был в буквальном смысле тернистый. Лойеры (цепкие лианы) рвали нашу одежду и царапали лицо и руки. Лес то слегка редел, то становился густым донельзя. То и дело спуски и подъемы. Направо и налево высокие деревья, увитые лианами, покрытые паразитными орхидеями. Временами путь преграждало свалившееся дерево, иногда мы вступали в кущи пальм и боролись с цепкими листьями и зубчатыми нитями. Корни деревьев красивыми стенками ползли от стволов в землю. За нами бежал молодой Цезарь, а в кустах шмыгала охотничья ретивая Фанни, убегавшая бог знает куда. Иногда мы перебирались через крики, то сухие, то изобиловавшие водными ямами и омутами. В период дождей все они сливались в один быстрый поток. Верхушки деревьев неумолчно оглашались криками невидимых птиц, недосягаемых взору за поражающей густотой растительностью. Трещала райская черная птица, чемкала и кричала игрунья-шалашница, а им вторил целый концерт других птичьих голосов.
Пройдя с милю, мы присели, прислушиваясь. Вскоре раздался лай Фанни, и Эльгнер помчался сквозь чащу. Я с своей экскурсионной банкой, мешавшей моему движению, старался не отставать от него, за что быстро поплатился спинкой моей жилетки, чуть не утащенной и основательно разорванной лойерами. Наконец, мы у дерева, где должна сидеть взлетевшая от собаки и облаянная ею талегалла. Однако Эльгнер, привычный к такой охоте, не мог ее выглядеть или она улетела до нашего прибытия, только мы решили идти прочь на новые поиски, к великому неудовольствию Фанни. Но через несколько минут собака наша вновь вернула нас к себе лаем.
И в этот раз прибытие наше было неудачно. Опять мы принялись бродить по гущине, присаживаясь и прислушиваясь, не залает ли наша Фанни. Вдруг резкий крик черной райской птицы остановил нас. Эльгнер стал всматриваться и, наконец, разглядел крикунью на верхушке дерева. Только тут он начал перезаряжать ружье с крупной дроби для кур на мелкую для райской птицы, величина которой не превышала дрозда. Я было принялся упрекать его, но это был преупря-мый немец, и мои слова его мало трогали.
На этот раз выстрел его был удачен, и красивый, совершенно не испорченный выстрелом самец свалился замертво вниз. На выстрел примчалась Фанни, но, не видя убитой курицы, которой, очевидно, ожидала, она вновь помчалась по лесу. Так мы долго бродили, пока Фанни снова не призвала нас своим лаем. Эльгнер, боясь упустить добычу, попросил меня руководствоваться лаем, а потом выстрелом и его ауканием, а сам, не теряя минуты, помчался вперед, насколько позволяла гущина. Я согласился и скоро потерял Эльгнера не только из виду, но из слуха. Идя на лай собаки, я удивлялся, что приходилось идти очень долго. Наконец, раздался выстрел, давший мне право начать ауканье или, вернее, «куиканье».
Ответ Эльгнера я получил не сразу, а получив его, я пошел на голос и снова шел очень долго, пока не приблизился. По пути я заметил, что принятое направление приходилось несколько раз менять, поправляя его на голос: до того обманчив звук в тропическом лесу. Нужна привычка определять точно, откуда именно слышится человеческий голос. Эльгнер на лай собаки шел точным путем, не сбиваясь, я же колесил, и когда мы шли вместе, то мне казалось, что спутник мой забирает в сторону. После двух или трех куиканий я услышал второй выстрел. Я поспешил и скоро добрался до Эльгнера, которого нашел обескураженным: оба раза он или промазал, или не добил насмерть, и раненая курица убежала. Он был очень огорчен, так как «зарослевые куры» - пока его единственный заработок, а сезон сбыта насекомых уже прошел, птичьи яйца добывать тоже очень трудно.
Меня неудача Эльгнера тоже огорчила, так как всегда приятнее бродить с человеком, пребывающем в веселом настроении духа, нежели с огорченным. Но вот еще раз нас призвал лай собаки. На этот раз Эльгнер подстрелил-таки славную курицу, которую я у него немедленно купил для коллекции. Ее пришлось нести за ноги, чтобы не испортить перьев. Было поздно, и нужно было до захода солнца выбраться из буша и добраться до дому. Эльгнер руководствовался в пути только солнцем. Снова началось карабканье вверх и вниз, от одного крика к другому, пока мы не набрели на какую-то тропу.
Наступили уже сумерки, а у нас для ночевки не было даже спичек. Вдруг вдали послышался новый лай Фанни, и Эльгнер не удержался и оставил тропу. У меня язык не поворачивался просить его не задерживаться до ночи в лесу. Эльгнер предложил мне остаться на месте, так как лай был близко, и обещал после выстрела прийти ко мне на куиканье. Скрепя сердце я согласился. Но признаюсь, поступить так нелегко человеку, который едва ли без помощи мог бы выбраться из этого девственного леса. Не погибнуть я боялся, так как в конце концов какой-нибудь крик вывел бы меня в культурную местность, но жутка была ночь среди цепких колючек, без огня, без пищи (воду здесь можно было найти). Я сел, положил около себя вырванную тросточку длинного тростникового побега, поднятый мной колючий шар какой-то пальмы, банку со спиртовыми тварями и курицу. Выстрела не последовало, и Эльгнер скоро вернулся. Как оказалось, разглядывая птиц, он пошевелил дерево, на котором они-то и сидели. Разумеется, птица снялась и улетела. Покинутую нами тропу Эльгнер скоро нашел снова, мы пошли по ней в надежде, что куда-нибудь она нас выведет.
По дороге мы раза два набрели на помет казуара, весьма напоминавший лошадиный или ослиный. Тропа привела к крику, но Эльгнер, как истый бушмен, рассмотрел где-то сбоку продолжение тропы. Она действительно была путеводной, но привела нас к покинутому стану черных и у стана кончалась. Пришлось вновь возвращаться по ней, но, дойдя до сухого криха, Эльгнер предпочел идти по нему. Дорогу нам преграждали водные омуты, огромные деревья, перевалившиеся через русло крика, и, наконец, самые обрывы берега, на которые приходилось карабкаться и с них же спускаться среди царства колючек и цепких растений.
Правда, идти мне было легче, так как я успел потерять и тросточку и шар, но от этого веселее не было.
Крик вдруг круто повернул. Эльгнер решил перебраться на другой берег крика. Руководствуясь каким-то особым чутьем бушмена, он вышел на лесную порубку, быстро сориентировался и, соображаясь с протоптанной сетью дорог, вывел нас на торную проезжую дорогу, которой мы прошли к ранее посещенному нами месту. Разумеется, Эльгнер не преминул подчеркнуть умение бушменов выбираться из чащи. В этом буше он был всего второй раз. Пройдя мили три, мы добрались до дому, где тотчас же принялись за хозяйничанье. Я начерно снял шкурку курицы, которая немедленно пошла в суп, а Эльгнер занялся огнем, чаем и пр.
Во вторник утром Эльгнер разбудил меня, предлагая идти на старое утконосье место, на реку, но я отказался и выразил желание идти на многоводный крик, который мы видели в одну из предыдущих прогулок. Эльгнер согласился, но почему-то без удовольствия. Он настаивал на том, что всегда нужно выжидать зверя на одном месте. Я возразил, что это вполне верно, если уверен, что он там находится. Одним словом, мы пошли вновь в буш и минут через десять вышли к крику, берега которого были столь же неудобны, как берега всех других, встреченных нами ранее.
Местность восхищала дикой красотой. Холодные воды, осененные до полной тенистости высокими деревьями, невольно манили к себе, а глаз натуралиста искал диковинного зверя, который, казалось, невидимо присутствовал под каждым нависшим над водой кустом. Но, увы, мы спугивали одних только «игуан», как здесь огулом зовут почти всех крупных ящериц, которые задолго до нашего приближения спрыгивали с нависших стволов с громким плеском. Карабкаясь и спускаясь, мы прошли несколько заводей, и только одной этой прогулкой и пришлось удовлетвориться: таинственный орниторинх не хотел поднять для меня даже краешка завесы на его домашнюю жизнь.
Я решил изменить план, и мы пошли к стану туземцев, который мне очень хотелось видеть. Этот стан раскинут в самой середине буша. Пять-шесть шалашей из пальмовых листьев - вот и вся обитель. Нас встретил злой лай собак и окрики заспанных голосов. Подойдя к одному шалашу, Эльгнер поздоровался и повел речь о мене табака на оружие. Но я был наивен: времена прошли, цивилизация меняет и нравы и желания. Туземцы предпочитали деньги и вообще неохотно соглашались продавать свои вещи. Впрочем, я и сам отказался от двух бумерангов (за один из которых туземец просил 3 шиллинга, что очень дорого по здешнему месту) и купил только вомера - копьеметатель.
Спавшие у тлеющих огней люди были голы, но кутались в «правительственные» одеяла. Женщины имели более прикрывающие одежды: через плечо у них была надета обыкновенно какая-то синяя или грязно-белая блуза. Один черный, уже вставший, завтракал лесными яблоками, другой возился около сделанной из коры корзины с водой. Каждый встававший, не исключая и женщин, расшвыривал огонь и закуривал трубку. Встав окончательно, мужчины надели рубашки. Из одного шалаша вышел Питер, работник на железнодорожной станции. По случаю такой должности он надевал брюки с подтяжками. Это был вполне цивилизованный парень, прекрасно говоривший по-английски. Он-то и мешал главным образом моим покупкам заявлением несуразно дорогих цен, указывая на то, что «богатые люди» не раз покупали у них оружие за хорошие деньги. От табака он отказался. Черное лицо его было испачкано белой краской.
На вопрос Эльгнера о причине этого он объявил, что вчера-де была «коробори». Это слово, будто стрельнуло по мне, и я немедленно заявил желание видеть коробори. Питер сказал, что это возможно, но что для этого нужно «плэнти тобако», много табаку. Эльгнер показал захваченную нами пачку табачных палочек, и черные, освидетельствовав ее, согласились в этот вечер устроить коробори для меня. Разумеется, не было границ моей внутренней радости. Увидеть хотя бы тень тех оригинальных игралищ и обрядовых танцев, которые некогда совершались во всех уголках Австралии ее исконными обитателями и которые теперь быстро исчезают, предваряя исчезновение самих племен, - было одной из целей моей поездки. В этот день я только и думал о коробори.

Танец 'коробори'
С Эльгнером ходили на станцию по его делам, чем я воспользовался, чтобы прикупить табаку. Дорогой встретили старого Билли, некогда Кинга Джека, с какой-то ношей для коробори и подтвердили ему, что в 8 часов придем в стан. Узнав про предстоящее коробори, некоторые кюрандцы тоже решили пойти, а когда наступил вечер, то я с удивлением увидел среди зрителей двух девочек, одну даже лет пяти-шести.
В восьмом часу мы зашли к себе, я захватил оставшиеся у меня кустарного производства кольца, а Эльгнер предусмотрительно взял одну из моих свечей, которыми и освещали путь к стану среди зарослей буша. На счастье, не было ветра, иначе не знаю, как мы пробрались бы в чаще девственного леса среди темноты тропической ночи, так как у Эльгнера вышел весь керосин из лампы в фонаре. Мы снова последовательно прошли по дороге, по опушкам, через крик, по камням, пролезая под изгородями, и, наконец, добрались до тропы по бушу. Сквозь деревья показались огни стана, и послышался собачий лай. Лагерь не спал, но ничего соответствующего предстоящей коробори тоже не было видно, только у самого стана были несколько подрублены деревья, и на образовавшейся вырубке горел костер. Туземцы, как и прежде, встретили нас довольно апатично. Эльгнер пустился на шутки, на которые черные отвечали детским смехом и хихиканьем. Конечно, у всех в зубах торчали трубки. «Да будет, что ли, коробори?» - допрашивал Эльгнер, и из не особенно связных ответов мы узнавали, что будет. Но кто будет в ней участвовать, так и не добились.
В ожидании обещанного зрелища мы присели у одного из шалашей. Старик черный с курчавыми седыми волосами, одетый единственно в короткую белую рубашку, сидел у огня, поджав ноги на одеяле, и невозмутимо курил трубку, сплевывая на огонь. Рядом в хижине почти смежной (их разделял только костер) возилась женщина, готовя какое-то месиво или тесто, а возле нее трехлетний мальчуган играл с двумя котятами. На вопрос Эльгнера, какая из женщин «джин» старика, тот показал через плечо в другую половину шалаша, и одна из женщин объявила, что она сестра той, которая месила тесто. При этих разъяснениях все обязательно хихикали.
Черные то и дело переговаривались и перекрикивались из одного шалаша в другой. На весь стан раздавался плач чьего-то ребенка и недовольный лай взбудораженных нашим прибытием собак, тем более что мы прибыли с Цезарем к Фанни. Посидев, мы снова перешли к месту, где горел одинокий костер, и около него увидели трех подростков и одного парня, размалеванных белыми полосами по груди и лицу мимо носа и ушей. Это - участники скорой коробори. Из, одежды на них было что-то вроде купальных поясов белого и красного цвета. Увидя нас, четверка выстроилась в ряд и начала танец коробори, который я с первого раза даже не счел за какой-либо настоящий танец, а принял за простую репетицию. Черные в такт топали правыми и левыми ногам к и всхрапывали по-лошадиному. Проделав это десятка два: раз, они приседали и взмахивали руками, дико взвизгивали все враз, кончая на этом «танец». Время от времени это все. повторялось снова.
В лесу замелькали огни - шла публика, зрители, которых набралось больше, чем действующих лиц. Со стороны зрителей начались увещания показать нам «биг коробори» (то есть настоящую, полную, большую коробори), причем ради приманки показывались мои табачные палочки и кольца. Черные только хихикали.

Житель Гавайских островов
Однако к прежней четверке присоединилось еще человека два-три молодежи, а под конец в танце приняли участие и одетые пожилые черные. Особенно подходил для этого танца один, к сожалению одетый, черный, кудрявый, как папуас. Танец был все один и тот же: медленное передвижение вперед с растопыриванием ног, хриплый крик в унисон и в такт и заканчивание танца взвизгиванием или звуком «трррррр...»
Мы подбрасывали несколько раз в костер сучьев, чтобы лучше рассматривать танцующих. Разгар коробори, если этим именем можно назвать виденный мной танец, выразился общим оживлением в стане. Из шалашей повылезли старый и малый. Вылез и старый Билли, говорят, в молодости своей пробовавший и человеческого мяса - вероятно, первых пионеров, а может быть, и миссионеров. Танцующих набралось за десяток. Один из одетых черных, напевая какую-то песню, стучал вумерой по бумерангу дробно и в такт. Три или четыре женщины, усевшись вдали у стана, у корней деревьев, хлопали себя руками по ляжкам так, что слышался глухой звук, словно о барабан, а у костра отплясывали коробори. Вариациями танца-топания было бегание кругом одного за другим, танец двух на корточках среди круга из других танцевавших стоя, особые, довольно двусмысленные движения ногами всех или двух в круге, стояние на коленях и движение только руками, наконец, хождение то в ряд, то кучей, то один за другим.
Что за смысл был в этом коробори, я так и не дознался, так как по расспросам это было то кенгуру-коробори, то военная пляска, то еще что-то. По-моему, это было просто осколком того, что некогда имело действительно определенное значение и смысл. Как бы то ни было, я был доволен и этим. Да и действительно - разве не чудно было человеку, четыре месяца перед этим жившему мирно в Петербурге на Петербургской стороне, стоять среди глухого тропического леса Австралии, озаряемого колеблющимся огнем костров и оглашаемого оригинальными звуками черных потомков тех дикарей, которые с копьями и бумерангами пытались десятка два-три лет назад отстоять свою родину и дикую свободу от нахлынувшей на них тлетворной Европы...
Да кроме того, я впервые видел здесь обнаженное или почти обнаженное тело черных, их женщин, с детьми на плечах или открыто кормивших их грудью, и, наконец, оригинальный, настоящий дикий стан из пальмовых ветвей. Прибавьте к этому темный шатер неба, усыпанный звездами, в эту таинственную тропическую ночь.
Я роздал весь свой запас табака, подарил на память «джин» Билли перстень с зеленым стеклом, купил те орудия, которые употреблены были при коробори, и сопутствуемый Эльгнером вернулся домой несколько иным путем. В этот же вечер - ночь проявил негативы, оказавшиеся неудачными.
На другой день встал позднее, часов в 7, и весь день провел дома, готовясь к отъезду и записывая все, что видел, в свой дневник.
Вечером произошла небольшая размолвка с Эльгнером, вероятно, из-за неудачного снимка с Эльгнера на разбитом негативе. На другой день (14-го) размолвка усилилась, уж, право, не могу понять почему. Эльгнер выразил такую апатию к моему фотографированию, что я отказался снимать его, и мы перешли на холодно-официальные отношения. Я упаковывал вещи, а Эльгнер стоял снаружи спиной ко мне и холодно ждал окончания. Упаковав, я закусил на дорогу сладким картофелем и чаем, и мы с Эльгнером, взяв мой увеличившийся багаж, тронулись в восьмом часу на станцию, так как поезд шел в 8.10. По дороге раза два отдыхали. Я зашел расплатиться за табак для черных и пришел на станцию позднее. До поезда оставалось с полчаса, и мы изредка перебрасывались с Эльгнером словечками, чтобы не делать расставания неприятным. Наконец, поезд был подан, и мы простились, официально договорившись относительно научных сношений.
Снова замелькали туннели (их действительно 15), пропасти, водопады, глубокая долина реки Баррон и равнина побережья. Я сделал несколько снимков, на пластинках и пленках; благополучно доехал до Кэрнса. В Кэрнсе пассажиров поджидал кеб, и один из них довез меня до Рэд-Аркад к Корнвеллю. Последний встретил меня очень радушно и выразил согласие помочь мне при отъезде. Я перепаковал в его магазине вещи и с малым багажом зашел в Федерал-отель снять комнату. Уоттерс дал мне мой прежний шестой номер, где я и провел еще одну ночь. Достопримечательного было только то, что я по нечаянности умылся в чужом номере и спал на кровати, над которой устроен был полог, очевидно от москитов в москитную пору.
Отель Уоттерса - отель для рабочих, как он сам выразился, поэтому такому путешественнику, как я, он был очень на руку, и я не стеснялся ни своего изрядно поносившегося костюма, ни нечищеных сапог (в его отеле сапог прислуга не чистит). Клиенты его обедают в одних рубашках, на его веранде сушится белье - следовательно, стеснений никаких.
Целый день я хлопбтал о своей коллекции, едва устроив ее отправку в Бэрнс-Филипс-Оффис, где ее согласились отправить до Цейлона благодаря только моему званию «знатного путешественника». Зашел к Аткинсону и, несмотря на мой сильно похудевший кошелек, закупил у него фотографии и утварь черных (настоящего и прежних времен). Около полудня к пристани Кэрнса подъехал лонч, или бензиновый катер, миссионерской станции Яравва, и Корнвелль представил меня пастору Гриббсу, главе этой станции. Последний выразил желание показать мне станцию, и, несмотря на мое относительное нежелание терять время, он пришел сообщить Корнвеллю, что в 9 часов утра на следующий день он едет на станцию и доставит меня обратно в субботу 2-го, в день отвала моего парохода «Аравата».
С 8 с половиной утра я был уже на месте, предварительно позавтракав в отеле. Пастор, однако, заставил меня прождать его целый час, и я уже чуть не собирался отказаться от поездки к нему. Но и тут мы еще не отправились, так как с нами должна была ехать какая-то миссис Тэрнер из Амедео в Новом Южном Валлисе, которая прибыла только в 10 с половиной. Дожидаясь ее, пастор чистил газолиновую машину - мотор катера. Он был, оказывается, и капитаном этого судна и его доморощенным инженером. Матросами на катере, числом три, были молодые черные туземцы, весьма славные ребята. Кроме того, ехал еще какой-то мальчуган полукровок (метис хавкаст), очень смышленый, заведовавший, кажется, процедурой продажи рыбы, пойманной черными станционными рыбаками.
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'