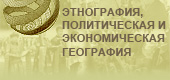
Волчья Смерть

Волчья Смерть
Лес, который всю зиму укрывал оленей от жестоких ветров, давно остался позади. Растущий гроздьями серо-пепельный ягель, зеленая под снежным покровом извилистая щучка и вечнозеленая кошачья лапка напоминали животным обильные зеленью летние дни. Копыто легко разгребало пушистый снег, и олень, проворно скусывая эту лакомую среди зимы зелень, быстро наедался, ложился на отдых и, блаженно зажмуривая глаза, пережевывал жвачку.
Извечный инстинкт неотступно, настойчиво звал оленей на север в тундру. Стадо шло на отел.
За оленем шли волк, песец, летели пернатые хищники. А позже, параллельно оленьим стадам, темной лавиной плывшим по заснеженной еще тундре, небесными трассами устремились туда же белоснежные лебеди, говорливые казарки, медлительные гуменники. Все на север, на родину.
В тундре апрель встретил стадо по-зимнему. Поземка легкой белой дымкой разбегалась по беспредельной равнине. Иногда, подхваченная шальным порывом ветра, взвивалась вверх, путаясь в ветвистых оленьих рогах, слепя глаза, забиваясь в шерсть колючими снежинками.
Весна была затяжная, поздняя.
В конце апреля совхозное стадо остановилось. Позади остались сотни километров пути, на котором снег и ветер заровняли следы двух тысяч оленей, наших нарт, чумовище с остатками человеческого обитания - головешками, пеплом, щепками.
Полярная природа не любит следов. Ночей уже не было. Они тоже остались где-то там далеко, позади.
Я проснулся, разбуженный движением и разговором, и откинул полог. У низенького столика за чаепитием сидели бригадир оленеводческой бригады Марьик Сенг, пастух Харючи Анвер и спиной ко мне, в малице, кто-то приезжий.
"Проспал.- Я достал из-под подушки ручные часы.- Нет, не проспал. Три часа. Что же они так рано чаюют?"
- Сяй ерць тара!* - заметив мою показавшуюся из-под полога голову, улыбаясь, приветствовал меня Марьик.
* (Чай пить надо!)
День в тундре начинается чаем и кончается им же, а "чай пить" заменяет наше "с добрым утром" и "спокойной ночи".
Я умылся и прошел к столику, на который жена Марьика Анка поставила уже эмалированный тазик с вареным мясом. От мяса поднимался аппетитно пахнущий парок.
- Мась! - сказал приезжий и, перевернув вверх донышком свою чашку, положил на него оставшийся кусок сахара. Вглядевшись, я узнал в нем пастуха колхозного стада Лаптандера.
- Беда! - показывая глазами на гостя, обратился ко мне Марьик.
- Что случилось! - обеспокоился я.
Марьик положил на стол гладко обглоданную кость, вытер губы и руки полотенцем, лежавшим на его коленях, не спеша набил трубку, закурил и, придвинувшись ко мне, заговорил, смешивая ненецкие слова с русскими. Вот что я понял из его рассказа.
Вчера ночью в колхозном стаде, стоявшем влево от нашего, ближе в Обской губе, случилось большое несчастье. На стадо напала какая-то шальная, бешеная волчица. Лаптандер с братом были в стаде. Брат Лаптандера дежурил в головной части стада. Пастух выстрелил по зверю, но промахнулся. Раздувшаяся гильза застряла в патроннике, перезарядить винтовку не удалось. Зверь, отпрянув от выстрела, ворвался в самую гущу стада и на ходу хватая оленей, рвал им глотки, не останавливаясь, бросался на взрослых, телят. Дежурные упряжки пастухов, охваченные общей паникой, перепутали, порвали упряжь и, поломав нарты, помчались в общем потоке обезумевшего стада. Братья с хореями и ножами в руках бежали за зверем. Волчица натешилась и ушла.
На снегу красными пятнами расцвела оленья кровь, и около каждого такого зловещего цветка чернел на снегу мертвый олень. За короткие минуты зверь зарезал шесть взрослых животных и восемнадцать новорожденных телят.
Когда Марьик кончил рассказывать, Лаптандер тяжело вздохнул и, поднявшись из-за стола, начал прощаться.
- Домой пора! - подавая мне руку, сказал колхозник.
Прощаясь, я внимательно посмотрел ему в лицо. Глаза были усталые и печальные. Трое суток он искал волчье логово в надежде рассчитаться с волчицей, но не нашел. К нам заехал передохнуть, предупредить об опасности.
- Он стрихнину просил. У нас ведь есть, дашь? - тихо спросил меня Марьик.
Я открыл походную аптечку, где в металлической коробке хранился стрихнин, и протянул Лаптандеру пузырек с блестящими кристалликами.
- Спасибо! - еще раз пожимая мне руку, поблагодарил Лаптандер. Марьик и Анвер вышли из чума проводить гостя.
До смены пастухов оставался еще час. Я разложил на столике, уже убранном Анкой, свои дневники, зоотехнические документы и принялся искать письмо ветеринарного врача Ямальской культбазы, старого полярного оленевода Луценко. Вот оно:
"В этом году,- писал Леонид Александрович,- у нас на Большом Ямале отмечено много случаев заболевания бешенством песцов. Возможно, будут попадаться и больные волки. Будьте осторожны. Это очень опасно для стада и для людей".
- Марьик! - обратился я к бригадиру, починявшему оленью уздечку.- Амгерт тара! Садись! И ты, Анвер, садись тоже! Помните, я вам говорил о бешенстве, письмо от оленьего доктора с Яр-Сале читал?
- Ну, помним!
- Надо усилить охрану стада. Проверить винтовки, расставить пугала. Трещотки с собой берите на дежурство. Ну, а против такой вот волчицы, кроме пули, ничто не поможет. Словом, Марьик, быть на чеку.
- Все это делается, и еще усилим охрану, только с винтовками у нас тоже плохо,- ответил Марьик.- Моя еще ничего, а вторая мечет куда попало, никак не пристреляешь, то обвысит, то обнизит, то вовсе в сторону пуля уйдет - одним словом, кочерга, а не винтовка, только угли в печке мешать. Да и гильзы раздувает тоже.
Винтовки у нас действительно были старенькие. Какие-то однозарядные "системы Ватерлоо" - французские. Откуда к нам в тундру попало это "Ватерлоо", я так до сих пор и не знаю.
В стаде, куда мы приехали втроем - Марьик, Аивер и я,- дежурили братья Харючи, сменный пастух Палё и пасту, шеский ученик Ольчи. Марьик с Палё поехали кружить тропу, я с Анвером - просматривать стадо.
Выехав на высокий бугор, я остановил упряжку. На пересеченном буграми участке спокойно, широким рассевом паслось стадо. Головная часть тянула вперед, ее сдерживал Ольчи. Ближе к головной паслись матки с уже окрепшими быстрыми прыгунами-телятами. В середине, медленно передвигаясь, паслись недавно отелившиеся матки. В хвосте стада лежало несколько важенок, отелившихся сегодня, рядом с ними едва заметными точками лежали новорожденные. Место было выбрано, защищенное буграми от северных ветров, с хорошим уклоном для водостока, но кормов было еще мало. Кое-где зеленела пушица, пробившая своей головкой ноздреватый наст. Основным кормом был пока ягель, который олени добывали копытом из-под снега. С утра настовая корка была тонкой, но еще достаточно крепкой. Нарта шла по ней не проваливаясь.
Да, отел начался! Сегодня прибыло двенадцать телят. Впереди еще тысяча. Тепла надо, солнца, больше солнца!
Как можно больше солнца, чтобы растаял этот снег и вырвалась из-под него яркая молодая зелень, наполнила горячим молоком соски важенок, чтобы с этим материнским молоком влилась сила в слабенькие ножки новорожденных телят и они уверенно зашагали в жизнь.
Нигде так, как в Заполярье, не чувствуется животворящая сила солнца!
Дежурные сменились. Из стада я ехал на одной нарте с Ольчи. Дорогой разговор зашел о волчице.
- Ну, на наших оленей нападет - живая не уйдет,- уверенно произнес мальчик, и глаза его загорелись.
... Шли дни и ночи. В пасмурную погоду они были почти неразличимы, только ночи были похолоднее. В стаде рождались уже десятками новые жизни, вступали в свой олений век маленькие длинноногие телята. Бережно под боком водили их за собой степенные важенки, знакомя с окружающим миром. Низким грудным призывом звучали голоса маток, звавших отбившихся телят, сочными басками откликались малыши.
Весна властно вступала в свои права.
Бригада работала дружно. Отел шел сжато. На ночные дежурства пастухи выезжали с винтовками, начищенными, смазанными ружейным маслом, с запасом патронов - словом, во всеоружии.
Вокруг стада были расставлены пугала на крестовинах - старые выноски-малицы, всякое тряпье, предназначенное для отпугивания пернатых хищников - ворон и ястребов, которые не прочь были напасть на слабенького, только что родившегося теленка. У них были в этом свои приемы и опыт. Обычно хищник подкарауливал сырицу - молодую мать,- завидев Около нее еще неподвижного теленка, подскакивал к ней и, треща крыльями, резко поднимался вверх; испуганная мать с еще неокрепшим материнским инстинктом бросалась в сторону, а пернатый разбойник нападал на теленка.
Изредка в поисках корма в стадо забегали песцы, облезлые, с еще не вылинявшим зимним волосом. Напуганные криками и трещотками пастухов, зверьки легкими прыжками уходили в тундру.
На дежурстве в стаде меня с Харючи Анвером сменили Марьик и Ольчи. Но мне не спалось. Часа в два я вышел из чума, взглянув на полярное майское небо, восход солнца. По привычке взгляд устремился в сторону стада.
В этот момент на горизонте, резко подчеркнутая бледной лазурью северного неба, показалась оленья упряжка - один, два, три оленя. "Неужели Марьик? Что-то случилось!" Олени становились все крупнее и крупнее, я уже разбирал их по масти и складу. "Марьик!" Без шапки, в одном пиджаке, бросился навстречу.
- Марьик, что там? - Поперек нарты что-то лежало. "Олень!" Значит, и нас не миновала беда. Наверное, волчья работа.
- Ничего не случилось! - кричит Марьик.- Все хорошо.
Поперек нарты, свешиваясь головой и передними лапами по одну сторону, задними лапами - по другую, лежал огромный волк. Хвост зверя волочился по снегу.
Это была старая матерая волчица. Зверь линял: брюхо - почти голое, набухшие соски стояли торчком. Остекленевшие глаза хищника, казалось, еще были полны злобы. Фиолетовый кончик языка, прикушенного в смертельной агонии, торчал из пасти. Под левой лапой на шерсти запеклась кровь.
- В сердце попал? - спросил я Марьика.
- Не торопись, все расскажу,- ответил он и замолчал.
Я заметил, как посерело его лицо и в глазах, обычно лукаво-насмешливых, появилось что-то новое, незнакомое. Такие глаза мне приходилось видеть только у людей, вырвавшихся из смертельной опасности, людей исключительного мужества и уменья владеть собой.
"Ольчи один в стаде",- мелькнула мысль, и я живо представил себе мальчика. У меня установились с этим энергичным, жизнерадостным подростком те отношения, которые больше всего любят ребята,- отношения равенства, несмотря на огромную разницу лет. Работал он с огоньком.
- Анвер, собирайся в стадо! Ольчи один остался! - слезая с нарты, крикнул Марьик.
Я взглянул на него. Он медленно разогнул правую ногу и осторожно ступив на землю, заковылял в чум. Пим, расшитый ненецким орнаментом, был разорван, меховой чулок тоже. На белой мездре чулка алела кровь.
Взяв Марьика под локоть, я повлек его в чум. Женщины уже проснулись. Топилась печка, на ней стояли чайник, котелок с оленьим жиром.
- Садись! - скомандовал я.- Давай ногу.- Я осторожно потянул с ноги пим.
- Тяни сразу, чего ты! Али силы мало? - заулыбался Марьик.
Рана была рваная, окровавлен подъем ступни.
- Чем это ты?
- Как чем? Не видишь разве: волчьим зубом. Волчица прихватила. Хорошо, вырвать успел, а то бы всю изжевала.
Я достал из аптечки пинцет, очистил рану от оленьей шерсти, обмыл раствором марганцовки и залил йодом. Марьик, смеясь, поморщился:
- Та кусала, и лекарство твое кусает.
Безупречно чистый белый бинт плотно охватил ступню, резко выделяясь белизной на смуглой ноге Марьика.
Чай уже был готов. Марьик, не поднимаясь на ноги, переместился к столику, я сел рядом.
- Ну, рассказывай.- Мне не терпелось узнать, что произошло в стаде.
- Вот напьемся чаю и расскажу.
Палё точил на оселке нож.
- Зверя обдирать пойду,- сказал он, обращаясь ко мне.
- Минутку,- остановил я пастуха,- давай сюда руки.
Палё протянул ко мне руки, я смазал их йодом.
- Ну, теперь иди, снимай.
- Зачем так сделал? - удивленно спросил Палё.
- Так надо, потом объясню.
Напившись чаю, Марьик начал рассказывать.
- Приехали мы с Ольчи в стадо. Я и Анвер поехали принимать от них дежурство. Осмотрели все, потом Анвер с Палё поехали в чум. Ольчи я послал передних придерживать, а сам остался у растельных важенок. На бугор выехали, оленей отстегнул и на тынзяне упряжку пустил пастись. Сижу на нарте, ноги под себя. Покуриваю. В стаде все как нужно, спокойно. Ольчи подъехал, побыл немного со мной - и опять на свое место. Важенка отелилась, облизала теленка, пососал он. Я пошел к нему, думаю, заклеймю сейчас.
Вдруг слышу крик. Ну, ты ведь знаешь, как на волка кричат? Я к нарте, оленей пристегнул... Выстрел! Не успел упряжку направить, смотрю: стадо, как ножом буханку хлеба, пополам чем-то разрезало, а посередине вроде просека - чистое место, а по нему прямо на меня волк махом идет. Голову вниз, язык вывалил, хвост поджал. Я винтовку с нарты схватил, до зверя шагов двадцать всего осталось, а он ровно меня и не видит. Прет на меня прямиком. Выстрелил я ему в грудь под левую ногу. Бах! Думаю, свалил, а он уж у моих ног, ну, тут я малость растерялся, перезаряжать поздно, ударить прикладом накоротке несручно. Пнул его ногой в морду, он меня за нее и сцапал. Я упал на него всей тушей и по-нашему, по-оленеводчески, одной рукой за ухо схватил, а другой - за нижнюю челюсть. Упали оба и лежим. Крепко его держу. Руки, сам знаешь, у меня какие - как клещи, а он мне прямо в глаза мордой. Словом, глаза в глаза. Слюной на меня брызжет, падалью от него из пасти воняет, аж тошно. Передние его лапы я к своей груди прижал, они у него почти без движения, а задними он все норовит меня порвать, только неловко ему, а маличную рубаху-то всю изодрал. Видел ведь.
Так и лежим. Сколько времени в глаза друг другу смотрели, не знаю. Может, минуту, может, две, но мне показалось - долго. Чую, руки у меня слабнут. Думаю, перехватить бы его за горло, да не решаюсь: пожалуй, чуть отпущу - он мне раньше глотку перехватит. Слышу, полозья скрипнули. Зверь забился, вырваться хочет, чует, человек подъехал. Ольчи подбежал, по голове его прикладом хватил, а он только головой тряхнул, даже глаза не помутились, и рычит на меня. "Ольчи,- хриплю,- ножом его!" Ольчи пянхар выхватил и под левую лапу ему, как оленю, воткнул. Тогда оттолкнул я его от себя. Отвалился он, закорчился, вижу подыхает. Вскочил я на ноги и упал тут же. Пошатнуло как-то, голову обнесло. Ольчи ко мне, думает, со мной не ладно что-нибудь. "Ничего, все ладно",- говорю. Поднялся.
- Лежать, видать, было не ловко,- засмеялся Марьик,- вот и все.
- Ты, значит, промахнулся по зверю-то? - спросил я.
- Нет. Только пуля немного вправо ушла, угодила как раз в болонь, в кожу под лапой. На палец бы левей, и свалил бы я его, а вот Ольчи меж оленей в него стрелял, промахнулся, а гильза тоже, как у младшего Лаптандера, в патроннике застряла. Ребенок ведь еще, а бесстрашный!
Тревожная мысль возникла и властно завладела мной: "Зверь больной, бешеный. Надо спасать Марьика".
Я вышел из чума. Палё снимал с волчицы шкуру. Я внимательно осмотрел зверя. Слизистые оболочки рта, язык, десны были какого-то, как мне показалось, синюшного цвета. Шерсть висела клочьями. Вид у хищника был отвратительный, нездоровый.
Неужели бешеный? Все поведение и внешний облик зверя подтверждали эту страшную догадку. "Шла прямо на человека, бросилась после выстрела, прокусила ногу". Все складывалось так, что сомневаться в бешенстве было трудно.
- Вспори живот,- наклонясь над ободранной тушей зверя, сказал я Палё. Пастух распластал накрест брюхо волчицы. Пять уже обросших шерстью волчат были готовы появиться на свет.
Московская осень заглядывала багрянцем бульваров в окна Главка. Я сидел у окна, занятый разбором почты.
Куча телеграмм из полярных оленеводческих совхозов: отчетные по движению поголовья, по выполнению плана мясосдачи, запросы, ответы на наши запросы...
Сквозь эти цифры, слова, требования, эту лаконичность телеграфного языка вставала в глазах уже заснеженная тундра. Да, там реки во льду, снег, морозы. Идет забой оленей, стада подошли к коралям. Как-то Марьик?
"Из Ныды" - вот и от них весть.
"Я бригадир второго стада Марьик Сенг убил восемь волков высылайте двухстволку Марьик Сенг".
Отложив остальную корреспонденцию, иду с этой телеграммой к начальнику Главка. Возвращаюсь, перечитываю резолюцию: "Выслать хорошую двухстволку со всеми принадлежностями".
|
ПОИСК:
|
© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'